
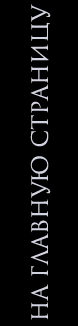




Александр Дугин
«Рене Генон: Традиционализм как язык»
Структурализм: язык и метаязык
С конца ХIX в. особое развитие получила так называемая «структурная лингвистика». Одним из ее основателей был Фердинанд де Соссюр (1857-1913), открывший ряд закономерностей этой дисциплины. Наука оказалась столь популярной и интересной (особенно как методология), столь действенной и оперативной для решения целого ряда проблем, что дала основание целому направлению в философии и научной методологии ХХ в., породив так называемый «структурализм» и вышедший из него «постструктурализм».
Наш век начался с удивительно точной (как и все остальные его афоризмы) фразы Ницше, давшей название его ранней работе: «Мы — филологи». И вот, поняв, в какой степени мы (как люди, как мыслящие существа) являемся «филологами», целый ряд философов обратили пристальное внимание на проблему языка.
Очень приблизительно можно сказать, что язык в структурализме, в структурной лингвистике, выносится в самостоятельную категорию, являющую нам мир предопределенных тем, мир структурированных и взаимосвязанных смыслов, то есть, язык понимается как нечто, сопрягающее сферу интеллигибельную, интеллектуальную, сферу мышления, ноумена и сферу феноменологических, непосредственных онтических реальностей, доступных нам в ощущениях — того, с чем мы конкретно имеем дело. Таким образом, между смыслом (или, скажем, духом) и делом лежит язык. Язык обладает, как заметили структурные лингвисты, некоей «магической» самостоятельностью — все телесные вещи в этом мире имеют в нем свое растворение, некий вход в язык: cопрягаясь со стихией языка, вещи искупаются, изымаются из мира телесности посредством того, что получают имя. Одновременно, в обратном направлении, через язык сфера духа воздействует на сферу плоти, материи. Можно вспомнить сюжет из Гофмана (приводимый неоднократно Е.Головиным), где герои повествовании для эвокации духов употребляли обычную грамматику. Структурные лингвисты с использованием развитого понятийного аппарата, рационально, выразили, в сущности, ту же магическую идею: вещь растворяется в слове, слово утверждает вещь.
Согласно гипотезе Уорфа-Сейпира, «окружающая нас действительность выковывается нашим языком». Если у вещи нет названия — ее просто нет. Гипотеза Уорфа-Сейпира, в принципе, вполне совпадает с характерным представлением мира Традиции о том, что наличное бытие вещей растворяется в их именах, и имена способны создавать, воплощать, материализовывать конкретные вещи. Даже на бытовом уровне понятно: достаточно в определенной ситуации сказать с должной интонацией «сделай» то-то и то-то, «молчи», «умри», «убий» или «не убий» — и материальный мир начинает меняться. Пока неважно, какие механизмы и каким образом начинают действовать, очевидно лишь, что слово обладает колоссальным «теургическим» значением. Теургией древние греки называли жреческое искусство, с помощью которого люди, используя заклинания и ритуалы, могли понудить Божество определенным образом проявить себя.
Соответственно, изучение слова, языка и его моделей является, своего рода, современным аналогом «оперативной магии», позволяющей изменять, трансформировать действительность и одновременно приводить конкретный мир феноменов к концептуальной, отвлеченной модели, к эйдетической реальности, растворяя наличные предметы в некоем концептуальном ансамбле. Сегодня утвердилось искаженное представление о магических искусствах древности: будто бы они служили лишь практическим целям и использовали духовные миры для влияния на материальные ситуации и вещи. На самом деле, это была лишь одна — оперативная, прикладная — сторона магии. Существовала и другая — спекулятивная — сторона магии, призванная не изменять наличную материальную ситуацию, но понимать, объяснять ее, возводить к архетипу, разгадывать заложенный в ней «сидерический смысл».
Центральная в сегодняшней лекции тема — это разделение Фердинандом де Соссюром (а за ним всей структуралистской философией) совокупности языка на части: потенциальную и актуальную. В разных языках это деление может выражаться в различной терминологии. Во французском le language («весь язык») делится на la langue (потенциальная часть, «собственно язык») и la parole («слово») или le discours («высказывание») — актуальная часть. В русском языке можно говорить о членении на язык (потенциальное) и речь (актуальное).
Что имеется в виду? Сложно переводить точно эти термины, потому что, по большому счету, речь идет не о строгих готовых определениях, но о сложной духовной операции, о тонкой дифференциации (диакрисисе), разделяющей на две составляющих то, что представляется единой реальностью. Язык есть та несхватываемая сама по себе потенциальная реальность, которая изымается из естественного состояния, воплощаясь, отчуждаясь и становясь «не собой» в тот самый момент, когда человек произносит речь, осуществляет дискурс, высказывание.
В этот момент язык актуализируется. Когда человек говорит нечто, он использует некую невидимую, «пред-лежащую» языковую массу, отсутствующую в актуальности, избирательно изымаемую из потенциально наличествующего языка, для того, чтобы произнести (простую или сложную) речь. В языке есть два элемента. Первый — это собственно язык, совокупность лексических, морфологических закономерностей, словарного запаса (тезауруса) и законов, управляющих структурой предложения. Этот язык — на чем настаивали структуралисты — есть некая постоянная, синхронная величина; он всегда, одновременно и целиком присутствует. Быть может, самое интересное в структурной лингвистике — это признание самостоятельной реальности некоего синхронического комплекса бытия языка в потенциальном пространстве. Язык существует в некоем перманентном, отвлеченном от конкретной речи состоянии. Он всегда самотождественен, суверенен, синхронистичен. Конкретная речь (высказывание) изымает из него фрагменты, переводя бытие языка из синхронного состояния в диахроническую последовательность. Высказывание существует последовательно, язык — одновременно. Язык делится на две части: то, что на нем говорится, и то, с помощью чего говорится то, что говорится.
Язык как потенциальная часть неразрывно слит со сферой смысла. И вот, когда структуралисты обнаружили это обстоятельство, оказалось, что язык, проступающий сквозь речь, не тождественен совокупности всех существующих речей (и даже всех возможных речей): он всегда шире, чем то, что на нем говорится, и может выступать самостоятельным объектом исследования. Изучение синхронической лингвистической реальности позволяет замечательным образом высветить механизмы социального поведения, уровни психоаналитического среза личности, структуру нормативов и аномалий вплоть до радикальных соматических расстройств. Так возникла школа Лакана, французского психоаналитика, который сочетал структурную лингвистику с психоанализом и создал довольно емкое учение. Кстати, у Фрейда, в книге об оговорках я в первый раз набрел на идею сочетания психоанализа и структурной лингвистики, лингвистики как таковой. Лакан развернул эту тему, а такие постструктуралистские авторы, как Делез и Гватари, развили методологию происхождения языка из перводвижения вегетативного уровня телесности. Это была очень интересная и крайне остроумная линия исследования. Делез, в «Логике смысла», например, показывает, каким образом, отправляясь от некоторых первичных шевелений телесной реальности внутри человеческого существа, возникает метаструктура языка и логического мышления. Здесь, несмотря на современный рационалистический контекст, снова всплывает древняя архаичная идея об оперативной значимости языка, который не просто обнажает и вуалирует (латинский глагол revelare означает и «вскрывать» и «закрывать» одновременно) положение дел на телесном бессознательно-вегетативном уровне человека, но и в то же время обратным образом воздействует на человека, меняет его (и не только его) телесность, управляет ею. Отсюда вытекает роль речи в психиатрической лечебной практике. Речь, беседа, рассказ, дискурс в некоторых ситуациях способны излечить тяжелые психические заболевания.
Тут возникает интересный момент: изучение языка структурными лингвистами, структуралистами, на самом деле, тоже происходит с помощью языка. И вот здесь-то мы подходим к самому важному: методологически изучая язык, структуралисты, структурные лингвисты выработали некий особый «сверхязык», «метаязык».
Метаязык — это тот язык, с помощью которого изучается язык. Это еще большая степень обобщения.
Сам факт вскрытия языка, отдельного от речи, является уже углублением в своего рода «онтологический ревизионизм», потому что обыденное сознание (дигитальный, двоичный, рассудок, пресловутый «здравый смысл») не может схватить синхронический язык. Обыденное сознание понимает язык просто как речь, как совокупность речей или как закономерность, проявляющую себя в речах. Обыденное сознание есть речевое, но не языковое сознание, оно чувствительно к дискурсу, но глухо к языку.
Следующим шагом в понимании онтологии языка является выявление проблематики метаязыка, с помощью которого исследуется определенный язык. Здесь содержится самое важное: дело в том, что, исследуя язык и модели языка, структуралисты были несвободны от некоторых протовлияний, от определенных парадигм, префигурировавших, предопределявших модели, с помощью которых исследовалось то, что лежит в основе языка.
Почему сегодня мы говорим о кризисе структурализма и постструктурализма, об исчерпанности этих направлений? — Потому, что исчерпана (метаязыковая) парадигма, на которой основывалась сама структуралистская школа, в целом исходившая либо из позитивистско-кантианского источника (у Соссюра), либо (в авангардных версиях «новых левых») из марксистской парадигмы. Иными словами, изучение языка в структуралистской модели велось с помощью неких уже заданных протоидеологических (глубоко закопанных), но, на самом деле, вполне определенных ограниченных моделей. Исследование природы языка велось с позиций другого языка.
В случае структуралистов изучение языка было не чистым (возможно ли чистое изучение языка — пока вопрос), а заведомо заданным моделями подспудного метаязыка, ограниченным, предопределенным. Отсюда и приоритетный интерес структуралистов не к лингвистической онтологии, но к динамике изменения речей.
Собственно, отсюда и кризис современной «новой левой» философии. Я уж не говорю о полном отсутствии ее представителей в России. У нас эту философию никогда адекватно не понимали, а сейчас в ней уже нечего и понимать. Сегодня и сами европейцы, которые когда-то (еще лет 10 назад) все отлично понимали, перестали понимать, что имели в виду Делез или Лакан, поскольку полностью сменились базовые метаязыковые вехи. Марксистское подразумевание, «новая левая» контестационная парадигма исчерпаны (это, правда, не значит «до конца поняты») и общим знаменателем лингвистического исследования служить не могут. Сфера лингвистики, сфера исследования языка подошла к трагической черте, которая требует какого-то радикального преодоления. Если внимательно посмотреть на оптимизм в семиотических, лингвистических исследованиях 60-70-x гг. (в том числе и в нашей стране) и сравнить, как аналогичные проблемы рассматриваются сейчас, мы заметим резкий контраст. Сегодня в этой области царит полная пассивность, хаотизм... Исследователи потеряли нерв того, что делали, внезапно забыли смысл и значение того, чем занимались, утратили живое наполнение категориального аппарата.
Но есть один человек, один автор (и связанное с его именем философское направление в ХХ в.), который остался в стороне от сферы интересов структурной лингвистики. Этот автор очень и очень важен именно для структурализма, хотя он никогда к структуралистам не причислялся. Сейчас, когда эта сфера в целом утратила свой интеллектуальный пульс (а вместе с ним и заложенные подразумевания), этот автор (через свое идейное наследие) вполне может вступить в нее в полном и нерастраченном концептуальном обмундировании, как «неотразимая кираса», как новый вид оружия, ибо эта сфера пуста, а он полон. Я говорю о Рене Геноне.
Рене Генон
Рене Генон является самым правильным, самым умным и самым главным человеком ХХ в. Умней, глубже, яснее, абсолютнее Генона не было и, наверное, не могло быть. Неслучайно, французский традиционалист Рене Алле в одном сборнике, посвященном Р.Генону {1}, сравнивал Генона с Марксом. Казалось бы, совершенно разные, противоположные фигуры. Генон — консервативный гипертрадиционалист. Маркс — революционный новатор, радикальный ниспровергатель традиций. Но Рене Алле совершенно правильно угадал революционный посыл каждого утверждения Генона, предельную, жесточайшую нонкомформность его позиции, переворачивающую все и вся, радикальную природу его мысли. Дело в том, что Рене Генон является единственным автором, единственным мыслителем ХХ в., а может быть, и многих-многих веков еще до этого, который не только вычленил и столкнул между собой второстепенные языковые парадигмы, но и поставил под вопрос самую сущность языка (и метаязыка). Язык марксизма был методологически очень интересен (особенно на определенном историческом этапе), тонко редуцировал историческое бытие человечества к наглядной и убедительной формуле противостояния труда и капитала (что, на самом деле, было колоссальным революционно-гносеологическим ходом, поскольку позволяло множество вещей систематизировать и свести в единую, более или менее непротиворечивую, динамичную конструкцию). Будучи большой парадигматической удачей, марксизм и был так популярен и завоевал умы лучших интеллектуалов ХХ в. Но Р.Генон — это еще более фундаментальное обобщение, еще более радикальное срывание масок, еще более широкая мировоззренческая контестация, постановка всего под вопрос.
Р.Генон выработал одну важнейшую парадигматическую интеллектуальную схему. Конечно, в смутном виде она существовала и ранее, ею в той или иной мере пользовались, но лишь Генон выделил ее как язык. Он сделал нечто аналогичное Соссюру или другим структурным лингвистам. Важнейшей, неисчерпаемой категорией в парадигматической схеме Рене Генона, которую он вычленил и которая является, может быть, самой общей и самой сильной среди терминов и понятий нашего времени, является категория «языка современности».
Понятие «современности», «современность» как концепт
В исторической науке принято справедливо противопоставлять Новое время (модерн) или современное общество и традиционное общество. Значение слова le moderne — «современное», «современность» — в устах Генона обладает таким колоссальным значением, что описывает весь метаязык того мира, в котором мы живем. Фактически, в понятие «современности» Генон вкладывает представление о парадигмах {2}, предопределяющих метаязык, язык, а затем уже — поле дискурсов современности. Вы можете представить себе, какова степень обобщения?!
Структуралисты указали, что помимо собственно дискурса — диахронически произносимых речей, сколь угодно развитых вербально логических цепочек — имеется синхроническая, одновременная, реальность постоянно существующего языка, который они изучали с помощью метаязыка, основанного на специальной философско-лингвистической методологии.
Р.Генон же, со своей стороны, и эту структуралистскую модель, и множество других гносеологических парадигм, предопределяющих различные более конкретные языки (в структуралистском смысле), более конкретные парадигматические комплексы и социально-культурные структуры, включает в одно понятие, заключая в ясно определенные границы, схватывая все целиком, обнаруживая, вскрывая сущность современности как некоего колоссального поля, охватывающего все то, с чем мы имеем дело, с чем привыкли оперировать, не подозревая, что это лишь нечто одно, и что вне этого существует еще целый веер других возможностей, иных языков. Все методологии, все языки современности, все ее парадигмы Генон включил в единое понятие, низведя «его величество» Язык (и метаязык) современности до уровня одного из возможных языков наряду с другими. Можно сказать, что он сделал реальность, претендовавшую на статус универсального языка — лишь набором речей, выстроенных по определенной логике и по строго конкретным правилам, показав, что существуют и иные полноценные модели, гораздо более универсальные. Он резко понизил онтологический градус, онтологическую степень того, что предопределяет всю нашу цивилизацию и все реальности нашего мира. И это является важнейшим моментом. Если обратиться к Генону, рассматривая его как автора, совершившего аналог структуралистской революции, то мы можем обнаружить совершенно новое значение его трудов и осознать важную ориентацию его миссии.
Итак, что такое «современность»? «Современность», по Генону — это некая фоновая парадигма, операционная система, своего рода компьютерный язык. Аналогия с языками программирования продуктивна. По мере развития компьютерной технологии базовые коды программирования, компьютерный язык заходит все глубже и глубже в фоновую сферу. Постепенно появляются языки, оперирующие уже с изначальным машинным языком. Потом появляются users, совершенно невежественные как в изначальном языке, так и во вторичных, развившихся на его основе, и отныне едва ли кто помнит ранние компьютерные технологии. На первых порах каждый пользователь компьютера должен был быть в какой-то мере, пусть в небольшой, программистом. Постепенно эта необходимость отпала, а соответственно, изменилось и представление о том, как действует компьютер. Позже возникали все более новые операционные системы, и в конечном итоге, даже общие представления о самом процессе программирования, о существовании компьютерного языка, рассеялись. Но от этого сам изначальный машинный язык никуда не исчез. Он остался, просто отныне он вынесен за пределы внимания, в область фоновых, не выступающих непосредственно реальностей. Мы его больше не видим, этого языка, не сталкиваемся с ним, как сталкивались раньше, в первых компьютерах. Теперь мы даже представить не можем, что это за язык; он существует на другом слое компьютерной техники. В конечном итоге появляются люди, которые умеют пользоваться компьютером, прекрасно его осваивают, но, тем не менее, понятия не имеют о том, что лежит в его технологическом основании. Как есть автомобилисты, которые понятия не имеют, что находится в моторе, и, тем не менее, отлично ездят, могут всю жизнь так проездить.
Определение «современности» в учении Генона — это выделение некоторого парадигматического протомеханизма, определяющего, как устроен наш мир. Мы, как обычные люди, погруженные в процесс становления, склонны воспринимать то, что нас окружает, то, что мы есть и то, что есть вокруг нас, как данность, как некое «все». Именно от этого «всего» мы откладываем наши познавательные шаги; получая представление о том, что было в прошлом, что будет в будущем, — мы сравниваем это с нашим «всем». Это наше сиюминутное «все» — оно для нас все без кавычек. И вне его могут быть только аналогии — аналогии прошлого (воспоминания), аналогии будущего (предчувствия, провозвестия, планирование). Генон утверждает, что, на самом деле, вся совокупность операционной системы современности, это наше пресловутое «все», есть ни что иное, как навязанная нам злонамеренная, аномальная, порочная, глубоко неорганичная и негармоничная, искусственного происхождения иллюзия, артефакт, симулякр, махинация, а вовсе никакое не «все». Такой симулякр операционной системы и называется в учении Генона «современностью», «современным миром». Современность, с его точки зрения, есть аномалия. Это лишь одна из моделей, еще точнее, аномальная модель, в рамках бесконечно большого набора других возможностей. Просто один из языков, а не некая универсальная реальность.
Генон противопоставляет понятию «современности» — понятие «традиции». Таким образом, здесь возникает самое интересное, что, с точки зрения философского структурализма, является центральным у Генона. Генон утверждает, что существуют два типа языка: язык современности, включающий все возможности, заложенные в понятие «современность», предопределяющий все языки, и даже метаязыки в рамках современности, и язык Традиции. И здесь возникает первый конфликт, первая линия разделения: с одной стороны — современность, с другой стороны — Традиция. С одной стороны — язык современности, с другой стороны — язык традиции. Другие исследователи тоже используют понятия «современное общество», «традиционное общество», «Новое время», «то, что предшествует новому времени», но обычно все мы, кроме последователей Генона, разделяем негласно нормативы именно современной парадигмы, даже если они являются подспудными, и всю терминологию традиционного общества рассматриваем как нечто прошлое и соответственно, низшее, а современное — как нечто настоящее, близкое к настоящему, и, соответственно, высшее. Помимо нашей воли мы действуем в операционной среде «модерна», независимо от того, понимаем ли мы механизмы ее функционирования (как программисты) или обращаемся с ней (как users) просто по инерции.
Это характерно для всех людей современного мира без исключения в той степени, в которой язык современного мира, высшая и наиболее глубокая парадигматическая модель его, предопределяет наше отношение к процессу времени, к истории, к терминологии. Так вот: как бы люди ни критиковали современность, все они, даже Маркс (хотя Маркс, надо заметить, был настоящим революционером, поставившим под сомнение целые пласты реальности, заявив, что это не реальность, а игра капитала, не аутентичное бытие, а происки капитала, его подозрение сродни геноновскому), рано или поздно останавливаются. Генон же идет гораздо дальше всех остальных. Генон — это уже совершенно иная реальность. Он противопоставляет друг другу, сталкивает друг с другом два языка — язык Традиции и язык современного мира. Он дальше всех остальных находится от современности, свободнее всех остальных от иллюзий современного мира. Он находится на такой гигантской концептуальной дистанции от самой стихии языка современности, что у многих его последователей возникает вопрос — а кто, такой, собственно, Генон {3}? Некоторые его ученики с восторгом и ужасом рассуждают так: он не может быть человеком, потому что человек по определению своему является продуктом среды (т.е. он запрограммирован базовым операционным языком). Генон же является чем-то противоположным «продукту среды», в том числе и космической. Из таких умозаключений возникла одна из, может быть, самых радикальных гипотез о его аватарической природе (исследователи стали изучать местонахождение дома, где он родился, Церкви, где его крестили в младенчестве, в какие стороны она была сориентирована, улочку, на которой он жил, пытались из его дома сделать этакий генонистский храм {4}...). Столь сильны были у его последователей интуитивные подозрения о дистанцированности Генона от языка современности, выразившейся в теоретическом описании этого языка как чего-то отдельного, внешнего, не затрагивающего основных парадигматических уровней восприятия бытия.
Как бы то ни было, Рене Генон совершенно не вписывается в наше время. Он, как сказал Мишель Вальсан, «самое крупное интеллектуальное чудо со времен Средневековья».
Чудо — чудом, но тем не менее этим все не исчерпывается. Рене Генон совершенно не современный автор, более того, он, пожалуй, дальше всех отстоит от современности, но что-то в этом все-таки не так, поскольку даже в мире аутентичной и органичной Традиции таких потрясающих персонажей, как Генон, появлялось довольно мало. Генон не просто посланец Традиции в среде, основанной на отрицании Традиции. Все обстоит, видимо, несколько сложнее.
Традиционализм и Традиция
Сам Генон говорит, что важна лишь Традиция. Превыше всего — язык Традиции как система связей, подразумеваний, противостоящая современному миру, языку современного мира, и имеющая все основания на истинность, на абсолютную истинность. Язык Традиции для Генона есть последняя и высшая инстанция, которая, являясь полнотой парадигматических онто-гносеологических возможностей, имеет право выносить свой приговор относительно любого нормального или анормального фрагмента реальности, в том числе и относительно парадигмы (или языка) современности. Поэтому в книге «Царство количества и знаки времени» {5} Генон говорит о том, что Традиция важнее, чем традиционализм. Традиция и факт принадлежности к Традиции гораздо серьезнее, полнокровнее и глубже ставит человека в истинную операционную систему, нежели чисто теоретический традиционализм, который есть лишь некое намерение, желание принадлежать Традиции. Здесь возникает очень интересный момент: если понимать под «традиционализмом» признание, принятие и развитие парадигматических моделей, предложенных Геноном, то ситуация окажется отнюдь не такой однозначной. Отношения между традиционализмом и Традицией будут не столь очевидны, как писал сам Генон, поскольку, если понимать под традиционализмом не других традиционалистов, а именно традиционалистов, следующих за Геноном, «генонистов», тогда картина окажется более интересной.
Генон не просто указал на то, что существует особая реальность — язык Традиции, он его в общих чертах, на схематическом уровне еще и описал. Он выяснил, обнажил, проявил и структурировал тот скелет, который предшествует формулировке конкретной Традиции в ее исторически фиксируемом воплощении. Поэтому освоить вскрытую Геноном модель есть нечто иное, нежели быть адептом той или иной Традиции, понимать ее, исповедовать ее, развивать ее, соглашаться с ее логикой. Генон сделал тот шаг, который, может быть, в самой Традиции вообще невозможен, ибо только в современном мире (язык которого является как раз полным нигилистическим отрицанием языка Традиции в его парадигматическом ядре) язык Традиции как нечто единое, законченное и цельное становится окончательно схватываемым в его чистой форме идеальным кристаллом. Поэтому Генон не говорил от лица конкретной Традиция, не говорил ее языком (как должен был бы делать, если бы он был только выразителем конкретной Традиции, вещающим от ее имени). Генон говорил вообще своим собственным языком. Это особый уникальный язык, позволяющий описывать и изучать и язык Традиции и язык современности (как частный случай аномалии, искажающей основные параметры языка Традиции). Генон создал особый метаязык, причем столь универсальный и всеобъемлющий, что с его помощью можно адекватно исследовать структуры любого языка (в самом общем понимании этого термина). В отличие от технического метаязыка лингвистов, метаязык Генона, действительно, универсален и его строй в целом свободен от некритических наводок операционной среды. Генон жестко и сознательно в корневом слое элиминировал в себе влияние парадигмы «модерна». Он проделал это в ситуации, где эта парадигма была столь тотальной, что альтернативная ей парадигма Традиции могла быть утверждена лишь извне. Личная судьба Генона состояла в том, чтобы перейти от утверждения теоретического традиционализма к бытию-в-Традиции. Но самое важное, что этот процесс сопровождался острейшей рефлексией, парадигматическая ценность которой намного превосходит скромные рамки человеческой судьбы.
Уникальность Генона в том, что его традиционалистское учение представляет собой нечто радикально новое, никогда не бывшее ранее. Это некий уникальный, никогда ранее не задействовавшийся концептуальный элемент. Благодаря Генону, благодаря усвоению геноновского послания мы можем отныне не только понять какую-то одну конкретную Традицию или несколько традиций (как конкретные дискурсы), но и составить представление о структуре и сущности Традиции как таковой. Особенно важно, что методологически это происходит на очень контрастном фоне, в ходе сопоставления Традиции с языком современного мира. Следовательно, традиционализм (как Генона, так и нас как последователей Генона) является уникальной исторической возможностью, существующей исключительно в рамках языка современности как антитеза этому языку. Только в наших уникальных (эсхатологических, по всем признакам) условиях возникает возможность для обобщения и универсализации традиционной парадигмы, которые раньше были невозможными по целому ряду обстоятельств. Ведь, находясь в Традиции, мы не можем видеть ее извне; мы существуем как часть ее. В то же время, находясь в традиционализме, мы в силу обстоятельств помещены вне Традиции, но способны очистить и выкристаллизовать представление о ее сущности, о ее скелете. На практике методологически это осуществляется через отрицание современного мира, через отрицание языка современности. Такое отрицание не есть абстракция, это конкретное прямое действие.
Никто из «людей Традиции» не мог бы этого сделать по причинам, о которых я уже говорил, не мог бы выработать описание языка Традиции, вывести ее универсальный метаязык. Генон это сделал. Он противопоставил язык Традиции языку современного мира. В этом, в первую очередь, и заключается колоссальное революционное значение Генона. Тот, кто идет за Геноном, идет в ту же сторону, в области, где нет ничего от современного мира. А путь этот на практике осуществляется через принесение в жертву языка современного мира.
Важно и то, что кроме радикального дуализма — язык Традиции против языка современного мира — существуют еще смягченные его варианты. Есть авторы (которых едва ли можно назвать «традиционалистами» в геноновском смысле, но которые находились либо под его непосредственным влиянием, либо под влиянием аналогичных идей), поставившие себе несколько иную задачу: выявить элементы языка Традиции в языке современного мира. Они тактически поступают иначе — не лобовая конфронтация, но «энтризм», «инфильтрация», попытка эволюционного изменения парадигмы современности в сторону парадигмы Традиции.
Таковы Мирча Элиаде, Карл Густав Юнг и т.д. Это мягкая форма традиционализма. Ортодоксальные «генонисты» (например, Ю.Эвола, Вальсан или Титус Буркхарт) шли на жесткую конфронтацию, рассматривая современный мир как абсолютно отрицательное явление, а его язык — как дьявольский антиязык. Вторая категория мыслителей, напротив, утверждала, что в языке современности по инерции сохраняются основные парадигматические нормативы, возводимые к традиционному комплексу. Они настаивали на том, что парадигма модерна аффектирует человеческое существо лишь поверхностно, влияние языка современности переструктурирует лишь внешний план рассудочного процесса, в глубине же человеческого существа, как и ранее, продолжают действовать парадигмы Традиции (Юнг называл эту реальность «коллективным бессознательным»).
Между Геноном (и «генонизмом»), с одной стороны, и Элиаде, Юнгом и т.д., с другой, существует соотношение, сходное с радикальным марксизмом и европейской социал-демократией. Традиционализм Генона настаивает на необратимом патологическом характере современного мира и его языка, и исправить ситуацию может только радикальный разрыв с современностью, своего рода, «восстание против современного мира» {6}, «консервативная революция».
Элиаде и Юнг считают, что современный мир не является столь уж «современным» в своей сердцевине, и следовательно, при определенных усилиях (но без революционного противостояния) его легко вернуть на привычную стезю «вечного возвращения» {7}. Это, своего рода, «социал-демократия» от социализма.
Юлиус Эвола, самый радикальный последователь Генона, считал Элиаде и Юнга отступниками, которые «продались мировому оккупационному кали-югическому режиму». Другие же традиционалисты одобряют достижения подобных, более мягких, традиционалистов, внедряющих в современный мир подрывные традиционалистские темы, своего рода концептуальный вирус, расшатывая тем самым анормальную операционную систему и приближая реставрацию. Тем не менее без Генона содержание действий Элиаде (и аналогичных ему авторов) едва ли было бы квалифицируемо; не существовало бы адекватных терминов и категорий, по которым можно было бы точно определить, что, собственно, сделал Мирча Элиаде в своих произведениях. Признавая правоту парадигм языка Традиции, он пытался отыскать их в современном мире, выявить их как самостоятельные комплексы и таким образом переинтерпретировать современный мир для того, чтобы, в конечном итоге, осуществить «захват интеллектуальной власти». У него это, увы, не получилось. Вообще же, этот путь, путь компромисса, дает определенный положительный эффект, хотя бы потому, что благодаря Элиаде огромная масса людей (а благодаря Юнгу — еще большая) были захвачены изучением языка Традиции, тогда как Генон остался заведомо автором для узкой интеллектуальной элиты, для очень ограниченного круга героических, бескомпромиссных и радикальных людей. Что лучше: количественный рост увлеченных историей религий «мягких традиционалистов», порой не дающих нужного качества, или соблюдение чистоты круга «строгих генонистов», подчас вырождающихся в бездеятельных и стерильных критиков, движимых «рессантиментом»? Вопрос открыт, как и в случае с выяснением того, кто прав: коммунисты или социал-демократы?
Качественное время, синхронизм, онтология вечности
Перейдем к более конкретным вещам. Есть два важнейших элемента, которые позволят нам понять, что такое язык Традиции, и что такое язык современности. В основе языка Традиции, который вскрыл Генон, лежит ряд определенных постулатов, фундаментальных принципов, которые касаются качества таких необходимых, глобальных для нашего мышления парадигматических категорий, как время и пространство. Когда мы говорим о понимании времени и пространства в языке Традиции и языке современности, мы попадаем в космос этих двух языков и начинаем распознавать координаты. Мы помечаем некоторые оси координат, и из двух туманных неопределенностей все приобретает более законченные, более конкретные, более различимые очертания.
Современность (или язык современности) видит однонаправленное время как главную реальность, основополагающий модус бытия. Эта аксиома, этот постулат в языке современности не ставится под сомнение. Время течет в одну сторону, и все, что есть, существует внутри времени. Все, что лежит вне времени, если это можно помыслить, является некоторой абстракцией, искусственной конструкцией, не обладающей собственным бытием. Это некоторая воображаемая величина, имеющая, может быть, некоторые основания для рассмотрения, но по сути дела онтологически отрицательная. Следовательно, становление оказывается единственной формой существования бытия, и то, что существует, пребывает в становлении, в однонаправленном времени. Собственно говоря, вечности в таком языке нет. Если о ней говорится, то это чистая неонтологичная абстракция. Становление же, оставшись наедине с собой, будучи взятым как некая самодостаточная и единственно реальная форма существования бытия, получает фундаментальную парадигматическую нагрузку. Процесс времени становится всецело онтологически позитивным процессом — заведомо позитивным, поскольку в нем, из него, через него бытие есть. Бытие тождественно времени, так как вне времени бытия нет. Это положительное отношение ко времени, представление о времени как об однонаправленном процессе, и отрицание существования самодостаточной автономной вечности, является важнейшей координатой языка современности. Этот язык структурируется вокруг названной онтологической оси. Не обязательно рядовые люди современности (языка современности) — будь-то философ, ученый, теледиктор, банкир, швейцар, лингвист, математик, физик, банщик или водитель — ясно понимают это, отдают себе в этом полный отчет. Подавляющее большинство людей как из научного (так и из ненаучного) сообщества абсолютно не отдают себе отчета в том, насколько глубоко концепция бытия как времени — Sein als Zeit — предопределяет современное представление о реальности. Бытие в языке современности тождественно времени, еще точнее — однонаправленному времени, которое есть процесс развертывания положительного, поскольку оно несет с собой и в себе бытие. Практически никто (подавляющее большинство) никогда не задумывается, не подозревают, что все их рассуждения, все поступки, все решения, все планы и все мнения о природе вещей вытекают именно из этой предпосылки, что это один из важнейших векторов языка современности, но что при этом могут существовать и существуют парадигматические языковые (в структуралистском смысле) модели, устроенные совсем иным образом.
Если мы подвергнем внимательному критическому разбору любое философское утверждение, любую физическую — да вообще научную — гипотезу, любое представление о химическом, социальном или культурном процессе, высказываемое в рамках модерна, мы повсюду обнаружим константу однонаправленного времени как одной из базовых осей координат языка современности. Однонаправленное время и совпадение времени и бытия, представление о мире, как о том, что существует только в становлении, имеющем положительный онтологический (и аксиологический) характер — важнейший закон парадигмы современности.
Такое количественное (или современное) время мыслится как бесконечная, не имеющая цели поступательность.
Если перейти к более конкретным проявлениям языка современности, к уровню семейств конкретных дискурсов, можно выявить две разновидности онтологизации времени. Наиболее ортодоксальное, с точки зрения языка современности, наиболее точно отражающее заложенное в нем представление о времени — это позитивистский подход, обобщенный до мировоззрения у представителей либеральной философии (Ф.фон Хайек, Б.Рассел, К.Поппер, И.Лакатос и т.д.). Здесь время вообще не имеет никакой телеологии, однонаправленно течет без цели и заданности. Такое чисто количественное время позитивистов и либералов максимальным образом приближено к парадигматической, базовой версии понимания этой координаты в рамках языка современности. Позитивистский (и постпозитивистский) подход, свойственный классической науке, развернуто и эксплицитно раскрывает важнейшее правило языка современности — правило тождества бытия и времени. Это своего рода образцовый дискурс, языковая тавтология — А = А, речь, информирующая о структуре языка, на котором она произнесена. Именно это направление в философии ближе всего стоит к тому, чтобы вычленить параметры метаязыка современности, очистить его кристаллическую парадигму от второстепенных и уводящих в сторону деталей. В высшей степени показательны здесь работы Карла Поппера {8}.
Если взять марксизм, который, безусловно, остается также в рамках языка современности, то он представляет здесь противоположный полюс. Исторический процесс (пусть даже процесс «развития материи») распознается здесь как некоторая телеологическая заданность. История течет к всеобщей разумности и коммунизму как к эсхатологической и онтологической цели.
С позиций парадигмы современности, марксизм является своего рода «философской ересью», хотя и остается в рамках языка современности. Это попытка «внутренней эмиграции» без выхода за его пределы. Можно высказать мысль иначе: марксизм является наиболее противоречивым высказыванием с позиций нормативных правил парадигмальной лингвистики модерна. Это авангардный речевой вызов, брошенный стихии того языка, на котором, при помощи которого и средствами которого он осуществлен. Это такое высказывание, которое покушается на признание правомочности языковых правил, угроза слома всего языка современности, предложение использовать для его постижения критическую модель, максимально чужеродную его структуре. Марксизм также приближается к переходу на уровень метаязыка, так как стремится универсально интерпретировать современность. Но если либеральная философия говорит этой современности всеобщее и всецелое «да» (поэтому и метаязык либералов конгруэнтен самой структуре модерна), то марксизм пытается сформулировать всеобщее и всецелое «нет», но не выходя за границы, утвержденные модерном (поэтому метаязык, предлагаемый марксизмом, — это радикальная критика). Такое уточнение позволяет по-новому понять сближение Генона с Марксом у Рене Алле. Но это сходство лишь до определенной черты. Маркс стоит на границе языка современности, Генон — по ту сторону этой границы. Генон трансцендентен этому языку.
Традиционализм Генона утверждает как основную координату языка Традиции совершенно иную картину, иное представление о времени. Генон утверждает, что форма существования бытия по преимуществу — вечность; что бытие, которое является вечным бытием, неразменно, никуда не проистекает в виде эманаций, интактно, остается цельным и незатрагиваемым никакими процессами, всегда, сквозь всякие формы времени, оставаясь самодостаточной, самозаконченной, полной, абсолютной реальностью — реальностью, которая одновременно возможна, действительна (в самой себе и для самой себя), необходима и абсолютна. Таким образом, в языке Традиции предформируется радикально иное представление о времени. Раз наряду с относительной формой существования бытия, каковой является бытие во времени или бытие в становлении, существует бытие вечное, бытие самодостаточное, неподвижное, ничем не затрагиваемое, мы попадаем совершенно в иную парадигму.
Это — первый шаг: утверждение существования вечности, вечного бытия и логически вытекающее из этого существования представление о времени как о процессе онтологического, бытийного убывания. Время, таким образом, является не однонаправленным, поскольку онтологически зависит от неподвижной онтологии вечности и вращается вокруг нее, проистекая из изначальной и неизменной, надвременной инстанции и поглощаясь ей. С этой стороны как зависящая от вечности бесконечно малая частица, как своего рода инобытие вечности, время имеет относительную онтологическую нагрузку. Но, взятое само по себе, в отрыве от вечности, оно ничего не весит и ничего не значит, его в каком-то смысле просто нет, это теневой аспект времени в парадигмальном языке Традиции. В целом же, оно является здесь процессом определенной редукции, постепенного снисхождения вечности от самой себя, диахроническим развертыванием качественного содержания вечности в направлении бытийного убывания. Следовательно, время имеет не только определенный вектор, определенную телеологию, но эта телеология еще и является отрицательной: это движение от плюса к минусу. От полноты к нищете. Понимание процесса времени как деградации, как второстепенной (и в чем-то негативной) категории проявления вечного бытия (так как речь идет о движении от качественного максимума к качественному минимуму), дает нам абсолютно другой мир, иное представление о природе реальности, иную систему координат, иную науку, иную культуру, иное искусство, иное все.
Но тут есть еще один важнейший для языка Традиции момент: поскольку вечность является абсолютной, постоянной и полной, а время является относительным и убывающим, то оно не может убывать вечно или даже неопределенно долго. Согласно традиционалистскому языку, время убывает до определенной критической черты, и когда сектор реальности, захваченный временем, доходит до некоторого предела, вечное бытие вновь обнаруживает себя, и возникает новый цикл. Таким образом, время в традиционалистской картине одновременно и телеологично (ориентировано к конкретному качественному пределу) и циклично. Оно движется от полноты откровения бытия к умалению этого откровения и, в конечном итоге, когда оно доходит до своих предельно-критических границ, его положительная часть становится бесконечно малой, содержательная сторона времени, его онтологический срез, «искра бытия» в рамках становления исчерпывается, выветривается, и тогда возникает особая ситуация конца времен, апокалипсис. Переворачиваются песочные часы мира, бытие снова обнаруживает себя в своем блеске, в своей вечной полноте, и возникает новый эон, новый цикл.
Итак, в случае понимания времени мы имеет важнейшую иллюстрацию одной из двух осей координат, которая является центральной для языка Традиции. Генон подробно описывает это в книге «Царство количества и знаки времени» {9}. Понимание времени в метаязыке современности радикально отлично. Нетрудно понять теперь, что оба языка описывают и предопределяют две совершенно различные реальности, два мира, с радикально иной онтологической структурой. Причем различны здесь не акценты или аксиологические оценки — ориентации, решения этической проблематики, предпочтения, мораль и т.д., — но само представление о том, что есть и чего нет. В языке Традиции времени в чистом виде нет, а вечность есть. В языке современности время — это единственно, что есть, и все есть только во времени, а вечности, напротив, нет. Нетрудно представить себе, в какой степени столь фундаментальное языковое парадигмальное различие влияет на все остальные формы существования тех существ, которые действуют по правилам двух столь отличных друг от друга «операционных систем».
Что важно понять прежде всего? — Что речь не идет о той или иной философской школе, каждая из которых утверждают свое. Речь не идет о мнениях групп, даже религиозных институтов (мол, атеисты думают так, идеалисты — по-другому, христиане и буддисты как-то еще). Речь идет о более серьезных, глубоких и общих вещах. Язык современности в самом тотальном смысле может интерпретировать в собственном парадигмальном ключе, в собственной интерпретационной системе, понятийно-логической структуре самые разнообразные учения как отдельные дискурсы, высказывания, расшифровываемые и оцениваемые в соответствии с особой моделью. Это общий язык современности может пользоваться другими, более узко понятыми языками (в том числе и религиозными, научными, культурными, светскими и т.д.), везде вкладывая в них базовые, невидимые, несхватываемые непосредственно, непроизносимые, но подразумеваемые элементы. Эта ситуация подобна тому, что фрейдизм называет «комплексами». — Комплекс о себе никогда не говорит, таится, пытается ускользнуть от прямого анализа, и нужна сложнейшая психоаналитическая практика, чтобы человек вспомнил, что в младенчестве его напугала, к примеру, погремушка или кот, и это оказалось его главной жизненной проблемой. Если вспомнил — значит вылечился, так считают фрейдисты. Бывают, правда, еще более суровые ситуации: не вспомнишь — все, так и умрешь неизлеченным, с комплексом.
Так же трудно докопаться и до базовых языковых элементов.
В структурализме и в традиционализме (школы Генона) речь идет как раз о своего рода психоанализе, которому подвергаются не просто отдельные личности, но целые науки, религии, целые материки сознания. По особому методу вскрываются глубинные подводные импульсы, которые предопределяют весь строй последующих конструкций, напластований. Нити едва различимых языковых первовлияний подхватываются где-то на уровне дна и поднимаются, разбираются, распутываются, демонстрируя то, что находится в основании последующих речевых дискурсивных построений, отрицающих свою искусственность. Есть такой термин в американской публицистической речи — conventional wisdom, «конвенциональная мудрость». Любое банальное утверждение является продуктом conventional wisdom. Кажется, что эта «мудрость» проистекает из самой себя и точно соответствует прямому и спонтанному голосу человеческого (и не человеческого) бытия. На самом деле, это совершенно не так. «Конвенциональная мудрость» — грубая, механическая, искусственная подделка, создаваемая и отбрасываемая социальными инженерами в соответствии с конкретными задачами манипуляции и по выкройкам языка современности.
Сопоставление и противопоставление языка Традиции и языка современности, исследование их внутренних языковых закономерностей — это как раз полное разрушение пресловутой conventional wisdom. Это вскрытие глубиннейших парадигм, которые ускользают от нашего внимания даже при самом серьезном и внимательном философском изучении, при погружении в сущность вещей. Здесь обнаруживаются те онтологические горизонты, пласты и пейзажи, которые имеют принципиально иной характер, иной абрис, иную конфигурацию, нежели считают те, кто ангажированы, погружены, некритично, недистанцированно, инерциально вовлечены в плоский и двусмысленный процесс становления.
Качественное пространство
Теперь стоит сказать несколько слов о качестве пространства. Это — вторая ось языка Традиции, с одной стороны, и языка современности, с другой. В языке современности пространство видится как нечто бескачественное и однородное, как нечто количественное. Существует некий особый пространственный мир в языке современности. Этот пространственный мир языка организует наше восприятие пространства — протяженность, с которой мы имеем дело.
В пространственном мире языка современности все предметы состоят из взаимозаменяемых компонентов — отсюда представление о количественной природе пространства, которая является ничем иным, как пределом телесного развертывания некоей предполагаемой подтелесной протяженности (чистой материи). Кстати, один из первых катехизаторов языка современного мира Рене Декарт говорил, что существуют только две вещи — это «рациональное мышление», «рациональный дискурс», и etendue, «протяженность», пространство. Вот это чисто количественное, однородное l'etendu является тем, что понимает под пространством современный мир. Это пространство изотропно, в нем право и лево, верх и низ, Запад и Восток принципиально не различаются. Отсюда — как предел — вытекает представление об One World, едином мире, «мондиализме», идея объединения всех стран, государств и народов в единое содружество.
Почему это возможно? Это не только возможно, но и необходимо с точки зрения логики языка современности, поскольку, в принципе, в сущностную однородность пространства разнообразие вносит лишь некоторая погрешность, искажение (гравитация или поле Луивилля в современной физике), которое ответственно за то, что пространство не является строго одинаковым повсюду. С парадигмальной точки зрения языка современности этот факт несет в себе некую субтильно отрицательную нагрузку, являясь необязательным возмущением, компонентом, который постепенно, в процессе тотализации парадигмы модерна и развития «цивилизации», должен быть преодолен.
Как и в случае со временем, мы никогда не думаем о количественном пространстве специально, но весь язык современности, все научные дисциплины, методологии, культурные и бытовые деяния имеют под собой в качестве фоновой подоплеки глубоко заложенное и скрытое от прямого критического размышления представление об однородном, количественном пространстве. Это, своего рода, «комплекс пространства», организованный на основании галилеевско-декартовских установок. Это локальное пространство.
В языке Традиции заложено совершенно иное представление о пространстве — а именно, о пространстве качественном. Оно развивается из представления о цикле, циклической природе реальности. Цикл возникает из-за того, что существует вечность, а пространственная разнородность возникает из-за того, что существует цикл. Существует один символ, т.н. «кельтский крест». Это круг с крестом, который является древнейшим архаическим индоевропейским календарем, древнейшей моделью цикла. Этот знак сочетает в себе пространство и время, как представляет их Традиция. Это как бы время, перешедшее в пространство, или пространство, динамически оживленное временем. Весь цикл, охваченный с позиции вечности, где мы видим начало и конец не последовательно, как в рамках становления, а одновременно. Мы видим синхронно и начало и конец и середину. Следовательно, перейдя к представлению движения солнца, годовых сезонов, определенную часть этой фигуры мы можем рассмотреть как упадок (левую сторону), а другую (правую сторону) — как подъем. Помещенное в матрицу цикла, пространство приобретает качественное значение, некоторую символическую нагрузку. Отныне любой предмет, любая форма, любая конфигурация малых и больших предметов, с которыми мы имеем дело, границ государства, континентов, приобретает дополнительное качественное значение, которое рассматривается не как нечто привнесенное, а как голос качественного пространства самого по себе. И здесь уже не важно, является ли пространственный символизм (янтра, в индуизме) продуктом человеческих рук, или это дело рук природы. Можно созерцать дерево, которое растет само по себе, и видеть заложенную в нем символическую структуру, а можно созерцать икону или тибетскую мандалу, где аналогичные гармоничные символические фигуры изображены искусственно. Для традиционного взгляда, для языка Традиции никакой принципиальной разницы между искусственным символом и естественным объектом не существует. Нарисованное солнце или реальное солнце одинаково символизируют Первоначало, бытие, вечность. Благодаря этому и существует возможность ряда магических превращений, метаморфоз в Традиции. Традиция, акцентируя символическую нагрузку, растворяет факт наличия однородной телесности, и идея, духовная часть, свободная световая часть вещей, существ и предметов освобождается от темной количественной оболочки. Пространство преображается, просветляется, одухотворяется, становится живым. На этом основана широко понятая иконография Традиции, символизм и сакральная география.
Одним из частичных применений пространственного языка Традиции является наука геополитика. Это самое «современное» и технологическое, в чем-то прагматическое, применение принципа качественного пространства. Геополитика как методология резко контрастирует с парадигмами языка современного мира, поскольку основывается на определенных мифологических и символических предпосылках, фактически тождественных элементам языка Традиции. Поэтому наиболее последовательные хранители ортодоксии модерна отрицают сам факт возможности существования этой науки. Заметим, что глубокие философские и онтологические основы геополитики заложены не только у Карла Шмидта в труде «Земля и море» {10}, но в наиболее чистой форме мы находим это у Рене Генона в его книге «Восток и Запад»{11}
Постгенонизм
Язык Традиции (и особенно традиционализм Генона как своего рода метаязык Традиции, язык описания языка Традиции) является общим для всех исторических традиций. Я не говорю о самых радикальных выводах Генона, где он утверждает наличие метафизического единства традиций. По этому вопросу могут существовать различные взгляды, я не хотел бы на этом останавливаться {13}. Что абсолютно не подлежит сомнению, так это единство и абсолютная полномочность утверждения парадигмы традиционализма, которую вывел Генон, и универсальная применимость этой парадигмы ко всем формам традиции, как бы они ни выражались.
Все существующие традиции на своем парадигматическом языковом уровне жестким образом конфликтуют с языком современности, поскольку в их базовых установках заложено противоречие основных онтологических представлений. Они абсолютно несводимы друг к другу, неконвертируемы, исключают друг друга.
Когда мы говорили об онтологических осях, — о времени и пространстве, — об их центральной роли в языке Традиции и языке современности, мы пытались показать, что мирно сосуществовать они при имеющемся конфликте базовых установок не могут, что между ними наличествует глубинное противостояние. Существуют две «армии», две «партии»: «партия» языка Традиции и «партия» языка современности.
Так что же такое «постгенонизм»? «Постгенонизм» — это термин, который является, своего рода, реакцией на генонизм. Генонисты — это авторы, повторяющие Генона, рассматривающие его как гуру, занимающиеся повторением геноновского дискурса (а не усвоением его языка) с очень небольшими отклонениями и рассматривающие это занятие как своеобразное интеллектуальное хобби. Кто-то занимается собиранием марок, кто-то — садомазохизмом, а кто-то последовательно исследует кризис современного мира, изучает знаки времени: это своеобразная ниша для определенного типа европейских персонажей, которые воспринимают Генона именно как дискурс. Чтобы отличать традиционализм Генона как метаязык Традиции от воспроизводства дискурса Генона, от простого повторения с вариациями того, что говорил Генон, имеет смысл ввести термин «постгенонизм». Под этим следует понимать глубинное усвоение традиционализма Генона как фундаментального языка, действительно обобщающего все другие языки. Но когда генонизм становится усвоенным языком, метаязыком, методологической и онтологической одновременно парадигмальной структурой, а не отдельным дискурсом, он может дать совершенно неожиданный эффект.
Постгенонизм — это не просто позиция, это еще и миссия, это императив, это действие, процесс. В этом процессе усвоения Генона, понимания Генона как языка, а не как речи, есть две составляющих. Первая — исследование, познание и усвоение с позиций традиционализма (генонизма) живой конкретной Традиции, с которой мы имеем дело. Это процесс постепенного движения от традиционализма к Традиции. Это очень тонкий и деликатный путь. В зависимости от того, о какой конкретной традиции или конфессии идет речь, здесь имеются свои специфика, подводные камни, нюансы и тупики. Но это особая тема. Скажу лишь, что на этом пути не все гладко, как может показаться на первый взгляд, и «традиционалисты» подчас меняют конфессии, как костюмы, не находя нигде строгого соответствия геноновской теоретической ортодоксии.
Вторая составляющая постгенонизма — это ревизия с традиционалистских позиций языка современности, то есть измерение точного расстояния между тем, что является образцовой современностью, а что — фрагментарными остатками архаических структур, т.е. инерциально существующими элементами языка Традиции.
Постгенонизм реализуется преимущественно в двух сферах действия. С одной стороны, это применение вскрытой Геноном парадигмы к отдельной реально существующей Традиции. Это не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд. Когда мы применим парадигмальный язык Традиции (традиционалистский метаязык) к реальному Православию, буддизму, иудаизму, исламу, к герметизму — к живым традициям и к их авторитетам, мы подвергнем эти области (и этих персонажей) определенному концептуальному методологическому рентгену, который высветит структуру их дефектов и отклонений от чистой парадигмы. Это очень серьезная и фундаментальная проверка на адекватность того, что выступает как Традиция.
Второе: Генон описал основные характеристики современного мира, языка современности в его чистой парадигме (которая в основных чертах совпадает с корпусом либеральных теорий), но окружающая нас реальная современность имеет значительные отклонения от идеала, от базовой модели. Эти отклонения являются инерциальными элементами Традиции (les residues, les vestiges), которыми пронизана современность. Реальный «современный мир» гораздо более традиционен, чем идеальный «современный мир». Конкретные дискурсы этого мира только стремятся к чистоте правильного языка современности. Соответственно, традиционализм как метод позволяет с неожиданной стороны взглянуть на многие современные явления, вскрыв в них инерциальные архаические туманности. За фазой утверждения того, что язык современности есть антитеза языка Традиции, напрашивается вторая фаза: вскрытие внутри современного мира разнообразных областей, отклоняющихся от языка современности, и следовательно, подлежащих адекватной интерпретации в контексте языка Традиции. Это тем более важно, поскольку между языком Традиции и языком современности нет даже приблизительного равенства: язык современности представляет собой предельно искаженный, антиномистский фрагмент языка Традиции, который первичен, не только исторически, но и онтологически, метафизически. Как уровень чисто количественной материи недостижим в принципе, и попытка произвести тотальную редукцию к нему есть только неосуществимое намерение{12}, так и абсолютизация языка современности недостижима на практике. Современность не может до конца очиститься от Традиции, так как чистого отрицания онтически достичь невозможно. Эту линию развивали М.Элиаде, К.Юнг и их последователи.
Вместе с тем, существует и обратное обстоятельство. Современные (даже аутентичные) традиции являются на практике гораздо более современными, нежели это кажется на первый взгляд. Фундаментальный язык Традиции постепенно отступает под натиском операционной системы современности. И там, где внешний фасад попрежнему остается неизменным и традиционным, сплошь и рядом на уровне экзегетики (интерпретации, толкования, освоения и понимания) может царить вполне современный дух. Конечно, непрерывные традиции всегда сохраняют возможность восстановления в них истинного традиционно-языкового измерения, но в определенных случаях это сделать совсем не просто, и огромный процент представителей аутентичных конфессий не только не способствует этому, но всячески препятствуют. Это настолько серьезное обстоятельство, что в определенных предельных случаях во внешне светских и «современных» течениях обнаруживается больше архаических, сакральных и, в конечном счете, традиционалистских черт, нежели в определенных разновидностях конфессий, имеющих историческую преемственность. Так, советский или китайский коммунизм содержит в себе больше элементов языка Традиции (выраженных, впрочем, парадоксально и противоречиво), нежели современная протестантская теология.
Традиционализм (как постгенонизм) оказывается в наших эсхатологических условиях чем-то большим, нежели просто принадлежность к конкретной традиции. Традиционалист, даже не практикующий никакую религию (что, впрочем бывает довольно редко, так как это противоречит естественной логике традиционализма), но освоивший, по Генону, язык Традиции, находится в чем-то ближе к ней (или, по меньшей мере, он острее и трагичней осознает свою дистанцию от нее), нежели человек, который внешне и формально принадлежит к аутентичной традиции (в том числе инициатической или эзотерической), но не совершает сложного и болезненного процесса выкорчевывания языковых парадигм современности.
Генон говорил, что традиционализм — это лишь намерение, лишь выражение желания примкнуть к Традиции. На самом деле, все гораздо сложнее. В нашей точке цикла традиционализм есть как раз то, что проверяет Традицию на аутентичность, фиксирует в ней наличие (или отсутствие) элементов языка современности.
Та картина, которую я описываю, очень проста. Если ее осознать, усвоить, сделать содержанием собственного сознания, то множество вещей станет понятным. Все можно будет свести к простейшим формулам, и тем не менее, эти простейшие элементы позволят расчистить колоссальные парадигматические засоры и заносы в религиозных, философских, этических и практических проблемах. Вычленение и сопоставление парадигматических языков — очень важная оперативная методика. Ведь даже реальная живая традиция может в определенный момент просто забыть о фундаментальных максимах традиционализма. Например, понимание Бога и божественной реальности у ряда христианских и даже полуправославных мыслителей становится отношением к чему-то подверженному времени. Так истолковывается историческая смена эпох — до Христа, после Христа — у ряда христианских (и даже православных) богословов. Все меняется вместе с вочеловечиванием Сына, верно, но Божественное всегда трансцендентно истории, оно входит в историю, но никогда не отождествляется с ней{14}...
Например, иезуит Пьер де Шарден говорил, что Бог и эволюция материального мира — это одно и то же. Это безусловно облачение языка современности (эволюционизм) в псевдохристианские «богословские» ризы. Но элемент отождествления бытия и того, что находится во времени, можно сплошь и рядом найти и у не столь одиозных авторов. Парадигматический язык современности — это вещь отнюдь не простая (от него не укрыться с помощью большого количества земных поклонов, постов, молитв, усердного самосовершенствования). Он подобен черту, псу духовному, который может легко проникать за закрытые двери: даже к святым и отшельникам он как-то находил способ прокрадываться. Язык современности — это и есть дьявол, антихрист, как говорят староверы, умственный волк. Язык современности способен невидимо и незаметно разложить изнутри концептуальную, онтологическую, смысловую, метафизическую сторону той или иной традиции при частичном или даже полном сохранении ее внешних аспектов. Это очень серьезный момент. Традиционализм имеет колоссальное религиозное, духовное, эсхатологическое значение, потому что он напрямую сопряжен с реставрацией содержательной и наиболее важной стороны Традиции. Конечно, если традиционализм ограничивается лишь критикой современного мира, он остается инертным, бессильным, стерильным. Такой критический постгенонизм, имеющий дело только с современностью и разоблачающий все ее аспекты, важен как предварительная нигилистическая фаза, но недостаточен. Полноценный и законченный постгенонизм предполагает наличие обоих этих элементов. С одной стороны — позитивная «критика справа» конкретной живой традиции, с вхождением в нее, освоением и изучением, а с другой — жесточайшее отвержение современного мира на уровне вскрытия и разоблачения его глубинных языковых парадигм.
Среди обычных генонистов (а не постгенонистов, как мы) существует характерное заблуждение: они повторяют критические мотивы, направленные против современного мира, которые развивал Генон, с легкими добавлениями. Воспринимая генонизм как речь (дискурс), инвективы, направленные против метаязыка современности, они рассматривают как нечто застывшее, раз и навсегда данное. Но современный мир тоже меняется, причем качественно и существенно. Современный мир деградирует. Будучи комплексом аномалий, он в своей аномальности идет от плохого к худшему.
Что же происходит в процессе прогрессивного «осовременивания» современного мира? — То, что оказалось недостаточно современным, то, что не до конца совпадает с идеальным языком современного мира, с его кристаллической парадигмой, постепенно отслаивается и преодолевается.
Посмотрите на динамику процессов в идеологической сфере ХХ века! Она однозначно показывает, как современное постепенно извергает из себя то, что было внутри него менее современным. Нельзя сказать, что отвергаемое в этом процессе подлинно традиционно, но в рамках языка современного это все же было более традиционным, нежели все остальное. Прикладывая эту модель анализа, можно заметить, что в ХХ веке наиболее «традиционными» из «современных» идеологий были идеологии т.н. «третьего пути». Будучи наименее современными, они пали первыми, преодоленные более современными идеологическими формами. Коммунистические режимы были более современными, чем идеологии «третьего пути», но менее современными, чем либеральные. Здесь возникает очень интересный момент, который был упущен из виду критиками современного мира среди конвенциональных генонистов. Либеральный дискурс, последовательно побеждающий (и вытесняющий) вначале националистические, затем коммунистические идеологии, постепенно приближается к чистой модели языка современности, практически отождествляется с нею.
То, что Генон распознавал как основу языка современности, наиболее полно провозглашается радикальными либералами Б.Расселом, К.Поппером, Р. Ароном, Ф.фон Хайеком, Ф.Фукуямой, Дж.Соросом. Современный дискурс воинствующих либеральных идеологов Запада и их философской обслуги (Филипп Немо, Анри-Бернар Леви, Андре Глюксман и др.) являет собой уже не просто речи, выраженные на языке современности, но практически сам этот язык. Поэтому они говорят о «конце истории», об «исчерпанности какого бы то ни было дискурса», о «постмодерне». Постмодерн — это и есть начало эры победившего либерализма, последний рывок современного мира к своему идеальному языку. Отныне ничего принципиально нового сказать уже нельзя, остается лишь цитирование, рециклирование, «ремикс» совершенных ранее — на предыдущих этапах истории — высказываний. «Конец истории», понятый по-либеральному, есть предел манифестации языка современности в его последней, «эсхатологической» форме. Именно либералы понимают все точно так же, как мы, последователи Генона. Поэтому между нами существует напряженность реального диалога, который является истинным интеллектуальным содержанием происходящих в современном мире процессов.
За всеми событиями окружающего нас мира (падением рубля, военными конфликтами, отставками правительств, новыми открытиями в археологии) стоит борьба двух противоположных лагерей. Один полюс — это крошечный лагерь постгенонистов, почти не существующий, подобный песчинке в пустыне, другой — гигантский либеральный лагерь языка современности, который претендует на глобальное господство.
Маленький лагерь постгенонизма является, тем не менее, наследником гигантского онтологического достояния, сконцентрированного в языке Традиции. В нем — невероятное богатство смыслов. И эти смыслы живые, они двигаются, как континенты, поднимаются и опускаются. Это и есть настоящая жизнь, которая может быть какой угодно — хорошей, плохой, удачной, катастрофической, но это жизнь. Традиции бывают разными: зловещими, милосердными, подчас конфликтующими между собой. Но это не столь важно, ведь только в них, в мире языка Традиции, в мире традиционализма сегодня концентрируются колоссальные энергии реального бытия, которое контрастирует своим внутренним богатством и внешней бедностью с противоположной картиной либерального мира, основанного на вычищенном и отшлифованном языке современности, где сверкающая изобильная рекламная мишура прикрывает смысловой удушливый вакуум...
Традиционализм и Россия
Что можно сказать о постгенонизме (традиционализме) применительно к российской ситуации? Для нас реализация программы постгенонизма является главной, единственной, основной государственной, национальной, социальной и культурной задачей. У нас есть только один автор, которого надо читать — это Рене Генон. У нас есть только одна задача — понять, что он хотел сказать, сделать его мышление нашим мышлением, его язык нашим языком. Только на этом пути можно сформулировать, нащупать и найти вещи, которые действительно значимы в общенациональном, в общенародном контексте. Вне этого любая смена правительств, катаклизмы и социальные сдвиги (даже самые позитивные) будут метафизически приравнены к нулю, поскольку вне постгенонизма нет ни духовности, ни социальной справедливости, ни жизни — ничего нет.
Здесь стоит подчеркнуть очень важный методологический момент. Реализуя программу постгенонизма применительно к православной традиции {15}, я пришел к выводу, что существует идеальная форма, которая фактически является нашим «национальным генонизмом». Это старообрядчество, Древлее Православие, которое, начиная со второй половины ХVII в., фактически и находится в том онтологическом, эсхатологическом и апокалиптическом состоянии, где кристально понятны и доходчивы позиции, изложенные Геноном. Здесь существует не просто близость или сходство позиций (на уровне дискурсов), но почти полное тождество. Адекватно усвоенный генонизм (т.е. постгенонизм) в России и в рамках Православия — это исключительно старообрядческая реальность, которая сохраняет в общих чертах парадигматический традиционалистский язык, лежащей в основе всей христианской традиции. Циклология (или историческая «экклесиология») христианства адекватно представлена именно в этом секторе Православия. Староверие представляет собой ту концептуальную реальность, которая выступает на первый план при применении традиционалистского метода к рассмотрению всей православной традиции.
Подчеркну, что данный вывод не является результатом личного знакомства со старообрядческими кругами. Скорее наоборот, следование строгой логике постгенонизма привело к убежденности в аутентичности и высшей ценности старообрядчества, а затем уже и к контактам (крайне продуктивным и содержательным) со староверами.
И именно потому, что этот вывод является чисто теоретическим и верным на умозрительном уровне, объективное (подчас нестройное, фрагментарное, проблемное) состояние сегодняшнего старообрядчества (далекого, естественно, от заложенных в нем гносеологических и эсхатологических стандартов) ничего не меняет в адекватности нашего убеждения. Отныне, если правильно искать и использовать адекватные концептуальные инструменты, в Старой Вере мы найдем все, что нам нужно.
Апокалипсис и лингвистика
Человек растрачивает себя в актуальном. Шумерский язык, я думаю, стал мертвым в тот момент, когда на нем сказали все, что могли сказать, поэтому дальше история потребовала ассирийских языков, других языков. Язык, будучи потенциально неисчерпаемым в своем онтологическом центре, в синхроническом состоянии, в своем диахроническом поступательном развитии исчерпывается. И здесь рождается очень интересное наблюдение: возникновение языка Генона, появление Генона, его терминологии, его модели, его онтологически революционной парадигмы, произошло именно в тот момент, когда Традиция в современном мире была уже на грани (одной ногой за гранью) существования. Только тогда стало возможно увидеть и охватить все онтологические контуры того, что развивалось, истончаясь и расточаясь в истории.
Мы, будучи наследниками Генона, являемся преемниками очень тревожной, очень отчаянной, почти безнадежной позиции. Мы упрямо отстаиваем то, что исторически проиграло, завершилось. Так как по мере приближения к концу цикла бытие постепенно покидает процесс становления, извлекает себя из него, а никак не увеличивает масштаб своего присутствия, то и сам традиционализм возник в критической, предельной ситуации.
Постгенонизм — как знание и вытекающее из него действие — крайне трагичен. Но радует следующее: мы видим, как стремительно исчерпывается содержание дискурсов, сверстанных по нормам языка современности.
Это позволяет предвидеть, предчувствовать, предвкушать возникновение новой, долгожданной эры, когда ситуация будет несколько иной (радикально иной). Сегодня наша речь (наш традиционалистский дискурс) минимализирована, максимально сокрыта. Даже, когда мы говорим во всеуслышание, открыто и не таясь, все равно это напоминает больше катакомбные проповеди, нежели оглашение на крышах домов. Из нашего лагеря до широкой коллективной души после фильтрации полицией мыслей, доносится только треск, свист и кашель: это «последний человек» Фукуяма включил глушитель.
Но я глубоко убежден, что и в этих «внешних сумерках» мы являемся не просто бессильными и лишь печально констатирующими происходящее свидетелями, но последним маленьким отрядом, защищающим посреди мерзости запустения святой сосуд. Затерянный в зиме конца времен маленький воинственный факультет Нового Университета (нового — потому что принадлежит реальности, сияющей по ту сторону предельной черты). Кафедра «королей-рыбаков», изучающих законы лингвистики. Я начал с того, что Фридрих Ницше назвал одну из своих работ «Мы — филологи». Я смею надеяться, что он в какой-то степени имел в виду и нас.
Примечания
{ 1 } Rene Alleau «De Marx a Guenon: d'une critique "radicale" a une critique "principielle" des societes modernes», Les dossiers H, Paris, 1984. >>
{ 2 } Греческое слово paradeigma дословно означает «то, что предопределяет характер проявления, манифестации, оставаясь вне проявления» (para- это «сверх», «над», «через», «около», а deigma - «проявление», «манифестация»). В самом широком смысле, это исходный образец, матрица, которая выступает не прямо, но через свои проявления, предопределяя их структуру. Парадигма - это не проявленная сама по себе и не поддающаяся прямой рефлексии структурирующая реальность, которая, всегда оставаясь за кадром, устанавливает основные базовые, фундаментальные пропорции человеческого мышления и человеческого бытия. Специфика парадигмы состоит в том, что в ней гносеологический и онтологический моменты еще не разделены, и подлежат дифференциации лишь по мере того, как базовые интуиции, проходя через парадигматическую решетку, оформляются в то или иное утверждение гносеологического или онтологического характера. Термин парадигма использовался в платонической и неоплатонической философии для описания некоего высшего, трансцендентного образца, предопределяющего структуру и форму материальных вещей. >>
{ 3 } Allemand, Jean-Marc: «Rene Guenon et les Sept Tours du Diable», Guy Tredaniel/Editions de la Maisnie, Paris, 1990. >>
{ 4 } Там же. >>
{ 5 } Guenon R. «Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps.» Paris, 1995. >>
{ 6 } Julius Evola «Rivolta contro il modo moderno», Roma, 1969. >>
{ 7 } Mirchea Eliade «Le Mythe de l'eternel retour», Paris, 1949. >>
{ 8 } Поппер К. «Открытое общество и его враги», т. I-II, M., 1992. >>
{ 9 } Guenon R. «Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps.» Paris, 1995. >>
{ 10 } Карл Шмитт «Земля и Море», полностью на русском опубликована в кн. А.Дугин «Основы Геополитики», М., 2000. >>
{ 11 } Guenon Rene «Orient et Occident», Paris, 1983. >>
{ 12 } А.Дугин «Метафизика Благой Вести», в кн. А.Дугин «Абсолютная Родина», М., 1999. >>
{ 13 } См. Guenon R. «Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps.» Paris, 1995. >>
{ 14 } Довольно подробно эта тема освящена в «Метафизике Благой Вести», указ. соч. >>
{ 15 } А.Дугин «Метафизика Благой Вести», в кн. А.Дугин «Абсолютная Родина», М., 1999. >>