
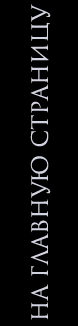




Александр Дугин
«Иные миры»
Парадигмальное значение терминов «возможное» и «действительное»
Сегодня речь пойдет о таких философских категориях, как
возможное и действительное. Это довольно сухие и достаточно
специфические термины. В практической жизни мы мало
рефлектируем относительно их реального содержания. Сейчас я
предлагаю сосредоточиться именно на них.
«Возможное»
есть «потенциальное», «потенция» (от латинского pot-esse
— «быть возможным»), а «действительного» — «актуальное» (от
латинского actus — «действие»). В дальнейшем я не буду
делать различия между русскими и латинскими терминами.
Пара понятий — действительное и возможное — входит в разряд базовых принципов при осмыслении тех основных парадигм{1}, с помощью которых складываются различные «картины мира» (die Weltanschauung), различные языки — язык Традиции и язык современности.
Парадигма формирует то, как мы воспринимаем действительность, себя самих, окружающий мир, как мы осмысляем множество феноменов и саму нашу видовую способность к мышлению. Проявление парадигмальных установок, которые сами по себе всегда остаются за кадром, распознать и вскрыть необычайно трудно. В частности, и потому, что мы пускаемся в путешествие за парадигмой не с чистого листа, а из положения, в котором сами подверглись фундаментальному воздействию той или иной парадигмы, и взойти к истоку того, что сделало нас тем, что мы есть (или думаем, что мы есть), предельно сложно. Это исследование парадигмальных, языковых основ восприятия реальности является почти героическим актом, так как на каждом этапе следствия парадигмальных установок стараются сбить нас с толку, выдать за изначальное и причинное нечто второстепенное и малозначимое, заставляя принимать одно за другое. Особенно трудны те этапы, где мы имеем дело со сложными составными понятиями. Здесь мнимая очевидность их структурированности скрывает множество подмен, хитросплетений и «заговоров» вещей и понятий, направленных на то, чтобы мы не смогли прорваться вглубь, к самой сути.
По мере приближения к самой высшей парадигмальной инстанции понятия и явления упрощаются, становятся более прозрачными и красноречивыми. Парадигма, хотя и продолжает от нас ускользать, все же выразительно просвечивает. Но вместе с тем, те, кто не сделали предварительных шагов по розыску смыслов, рискуют пропустить в исследовании этих синтетических понятий самое главное, поместив их на один уровень со второстепенными аспектами, и тем самым исказив реальность поиска.
Понятия «возможное» и «действительное» принадлежат к высшей области. С их помощью довольно легко схватить особость парадигмы, с которой мы имеем дело: она проявляется сквозь них с концентрированной ясностью. Но чтобы это было эффективно, необходимо предварительно возвести сами эти понятия на соответствующий их метафизической значимости высший иерархический уровень, освободив от банальных коннотаций и обыденной рядоположенности. Услышав произнесенное слово, например, «возможность» или «действительность», надо вставать и снимать головной убор, демонстрируя внимание, серьезность намерений, пиетет и дистанцию.
Не все направления философии соглашаются признать существование парадигм. Так, философская школа неопозитивистов Витгенштейна пыталась вскрыть «атомарные факты», то есть факты, существующие сами по себе, совершенно автономно, в полном отрыве от манеры их описания, трактовки, факты, существующие вне и прежде всяких парадигм, и пришла к невозможности ни один факт назвать подлинно «атомарным». Никакого «атомарного» факта не существует и не может быть. Факты есть, как есть объективная реальность, но когда мы с ними сталкиваемся и говорим о них, их воспринимаем, они не являются столь уж объективными: здесь мы имеем дело с влиянием парадигмы, которая предопределяет систему кодификации, оценки, группировки фактов, модель осмысления реальности, причем этой парадигмальное влияние настолько велико, что в одном случае одни и же факты и события осознаются как нечто важное, центральное, выразительное и доказательное, а в другом — как нечто ничтожное, периферийное, в пределе, вообще не существующее (как в современной математике бесконечно малые в пределе приравниваются к нулю).
Кантовские априории — «пространство», «время» и т.д. — сами по себе не есть универсальные доминанты чувственного восприятия как такового. Структурирование этих априорий в значительной степени зависит от тайно действующей парадигмы, и сам чувственный опыт в разных парадигматических контекстах будет фундаментально различаться. О нормативах рассудочной деятельности и говорить не приходится, они напрямую зависят от базовых установок на тот или иной тип логики, на тот или иной язык.
Подход, принципиальный для Нового Университета, заключается в том, что мы пытаемся углубиться в те пласты, которые предопределяют наш взгляд на мир, предопределяют для нас мир.
Для этого мы и предприняли столь специфический «маршрут» в Новом Университете, поставив своей целью не простое изложение (пусть даже с развитием отдельных тем) того, что говорил Генон или другие традиционалисты, что написано в «Священном Писании» или сказано святыми отцами, но осуществление «металингвистического» анализа того, как, еще не начав ни о чем говорить или думать, не начав ничего воспринимать, мы уже сталкиваемся с определенными пластами, которые действуют в нашем сознании как своего рода операционная система, заложенная неизвестным для нас программистом. Современные компьютерные пользователи, как правило, понятия не имеют о том компьютерном языке, который лежит в основе программирования.
Точно так же в философии, в истории религий или в отношении к самым простым проблемам современности, даже бытовым. Мы более или менее освоились с употреблением понятий «время» и «пространство»: если решили пойти в магазин, мы туда и идём, если решили позвонить приятелю через полчаса, то как раз через полчаса спокойно ему и звоним, и не задумываемся о том, как функционируют механизмы пространства и времени, механизмы звонка, механизмы отсчёта, внутренние часы, часы бытия или пространственная модель, которые составляют невидимую операционную систему, в пределах которой осуществляется поход в магазин или звонок приятелю.
Традиционализм — это своего рода психоанализ, только «трансцендентальный», «метафизический» психоанализ, поскольку здесь мы погружаемся не просто в глубокие, но всё же второстепенные, образные миры, сформированные в детском, даже пренатальном состоянии, как в обычном психоанализе, а в несопоставимо более глубинные и изначальные пласты. В этом отношении подлинный традиционалистский праксис, освоение, применение норм Традиции к языку, мышлению и существованию — это более серьезная и основательная операция, нежели психоанализ, требующая от нас колоссального сосредоточения внимания для того, чтобы схватить ускользающую стихию парадигмального, где физическое (эмпирическое) в первый раз соприкасается с духовным (разумным).
Понятия возможного и действительного являются для нас центральными потому, что апеллируют именно к парадигмам, которые предшествуют нашему мышлению.
Можно сказать (в грубом приближении), что существует взгляд на мир как на нечто абсолютно действительное, как на полную актуальность. Этот взгляд мы условно обозначим как «актуалистский».
Рассматривая весь мир как действительный, придавая статус реальности лишь тому, что является действительным, актуальным, мы оперируем с одной из основных парадигм. Эта парадигма предполагает единственность мира.
Признание качества реальности только за тем, что является действительным, означает единственность мира, поскольку все то, что есть — уже есть, есть сейчас и здесь. И, соответственно, все модальности реального в этой парадигме либо были когда-то действительными (в прошлом), либо являются действительными (в настоящем), либо будут являться действительными (в будущем). Таким образом, в рамках парадигмы действительного, все, с чем человек вступает в контакт, оценивается как реальное и существующее только в том случае, если наличествует либо свидетельство о действительности этого события, либо опыт действительности этого события в данный момент, либо значительная вероятность того, что это станет действительностью в будущем.
Актуалистская парадигма возникает из креационизма
Актуалистский взгляд на мир, актуалистская парадигма возникли не сами по себе. У этой парадигмы существует довольно интересная религиозная и философская предыстория. Модель единственного мира, все границы которого существуют раз и навсегда в действительном и никогда в возможном, логически проистекает из уникальной религиозной доктрины «креационизма» или «творения мира ex nihilo». Это очень важный момент: ни одна мировая традиция, религия или философская школа, которых не затронул дух креационизма, не рассматривает мир как нечто единственное, существующее только в актуальности, в действительности.
Почему именно креационистская модель приводит к столь радикальным выводам, и в чем ее специфика — об этом я много писал и говорил на предыдущих лекциях.
Повторю в самых общих чертах.
Креационистская модель или модель творения ex nihilo предполагает, что есть абсолютный бог. Этот абсолютный бог не просто един или всеедин, но единственен. Единственный бог представляет собой креационистское тождество — один равен одному. Это некоторое целое, у которого нет и не может быть частей. Это целое, которое принципиально не может расширяться, не может вытекать за свои пределы. Его пределы строго определены тождеством его самого с ним самим. Этот единственный монотеистический бог (или бог монотеизма) создает совершенно «внеположный» ему, не имеющий с ним никакой общей меры мир.
Очень любопытно, что мир, который создает этот абсолютно единственный бог, обладает многими параметрами, присущими самому абсолютно единственному богу. И монотеизм, в самом чистом креационистском авраамическом смысле, постулирует рядом с собой некий монокосмизм, монокосмос. Мы, говоря о монотеизме, часто не задумываемся об этом, и совершенно напрасно, потому что это весьма не самоочевидная концепция. С другой стороны, мы часто забываем философские и мировоззренческие выводы, которые изначально заложены в концепции абсолютного творца, творящего из «ничто». Из «ничто» абсолютный творец может творить только особую, совершенно уникальную реальность — монокосм. Коррелятом, симметричным дополнением, вторым полюсом креационистского мировоззрения выступает не просто какой-то возможный мир, а именно уникальный, действительный, необходимый, единственный мир.
Почему он единственный? Потому что творение ex nihilo, творение бытия из «ничто» богом — это, на самом деле, не есть, строго говоря, творение именно бытия (как такового). В основе креационистской парадигмы лежит ветхозаветная метафизическая формула, услышанная Моисеем на горе Синай: ахейя ашер ахейя, то есть «я есть сущее», «сущее есть сущее», «один равен одному». Соответственно, мир, с которым мы имеем дело в креационистской модели, есть в некотором смысле не-сущий: он создан из бездны не-существования, и остается неизменно проникнутым, пропитанным этой бездной.
Если этому миру задать серьезный онтологический вопрос: «что ты есть такое?», он (в рамках строгого креационизма) должен ответить: «я — ничто, я — завуалированное ничто, я — часть, которая является не частью чего-то целого, а частью просто так, частью без целого». Таковы уникальные выводы из креационистской онтологии, приводящие к монокосмизму как к представлению о части, которая не является частью чего-то. Эта часть, которая не может быть интегрирована и взята назад просто потому, что то бытийное место, откуда эта часть была взята — это «ничто», поэтому назад возвратить ее можно только в «ничто». Соответственно, такой единственный мир, творимый из «ничто», творится сразу и навсегда. И в нем все принципиально существует в модусе актуального.
Можно спросить: «Откуда такой логический вывод? Почему мир, созданный из ничто, творение ex nihilo, монокосм является только действительным?» Ответ таков: охватив в сознании самые широкие модальности единого креационистского, созданного, сотворенного мира, мы увидим, что он (будучи радикально иным, нежели его причина) принципиально не может эффективно черпать себе альтернативу из стихии единого бога-творца, поскольку у творения с ним нет и не может быть никакой общей меры.
Иными словами, как только мир появился, он тут же подпал под страшное проклятие пограничности — отныне он со всех сторон окружен границами, и весь смысл его существования есть граница. Такой актуальный мир свидетельствует: «я есть только то, что есть». Если в лице творца мы имеем целое без частей, то, с другой стороны, в мире, мы имеем часть, не имеющую целого, часть, не являющуюся ни частью чего бы то ни было, ни частью самого себя. Это парадокс, но эти два полюса креационистской парадигмы дополняют друг друга.
Если мы говорим об абсолютно актуальном творце, который только и есть сущее и который творит мир из небытия, ex nihilo, то мир, который он творит, приобретает совершенно специфический характер — это единственный мир, мир, которому, по большому счету, нет альтернативы, и, в конечном итоге, это мир, который можно назвать «абсолютным миром», поскольку его подоплека, его база, то есть та последняя ткань реальности, из которой он создан и соткан и которой он пропитан, является абсолютно отрицательной (в той же степени, в которой творец является реальностью абсолютно положительной), то есть никакой, это — ничто. Ничто из того, что «есть», ничто из ахейя ашер ахейя. Ни одна капля того, что «есть», точного и цельного самотождества («единица равняется единице»), не проникает в этот мир, не отдает себя этому миру. Этот мир навеки проклят и изгнан из того, кто его создал и кто, по большому счету, является единственно действительным.
Здесь возникает очень интересный момент: если бы человеческая душа в рамках креационистской парадигмы всерьез помыслила свое существование, сосредоточилась бы на его природе, она неминуемо восприняла бы обреченность быть действительностью, действительность того, что есть действительное, единственность наших восприятий, наших чувств, событий, всего, что с нами происходит, как колоссальную, чудовищную тяготу. И здоровые души так до поры до времени именно так все это и воспринимали. Поскольку, если в действительности нет никакой альтернативы, если действительность, с которой мы имеем дело, равна самой себе, никуда, по большому счету, не ведет и ничего, кроме самой себя не символизирует и не означает, и если каждый предмет является лишь выражением собственной индивидуальности (так же, как человек является только самим собой, и ничем больше — Петров есть только абсолютный Петров, Сидоров — абсолютный Сидоров, тот факт что они могут быть «новыми русскими», алкоголиками, партработниками или шизофрениками не в состоянии изменить их последнюю сущность) — душе становится очень и очень страшно.
Вдумайтесь, что такое актуализм. Это когда нечто означает только само себя и больше ничего, и каждый представляет собой только индивидуальные черты, которые не имеют с другим индивидуумом ничего общего, а если и имеют, то обязательно с определенной погрешностью. Это представление о несводимом, неинтегрируемом индивидуализме мира в самом себе и, соответственно, неинтегрируемой частности всех вещей в мире — поскольку это общее качество актуальности мира проецируется в дальнейшем на его части — составляет уникальный (и в некотором смысле, садистский) взгляд на природу реальности, где все означает ровно само себя и ничего больше.
Конечно, столь пронзительно и радикально даже в рамках креационизма люди отчетливо мыслить не могли, это для человека не выносимо. Но, тем не менее, элементы такого подхода, актуализма, мы встречаем везде, где существует концепция монотеизма и, соответственно, монокосмизма как его «естественного» и необходимого коррелята. Если творение создается единственным образом, если мир, существует только в форме актуального, соответственно, бытие оказывается радикально трансцендентным, причем до такой степени трансцендентным, что, в принципе, никак не относится к этой реальности, не сообщает ей своего бытия. Это, конечно, очень парадоксальная доктрина, которую довольно непросто осознать и описать.
И вот, здесь возникает очень интересный момент. Естественно, креационизм (я об этом тоже много раз говорил) и авраамизм определенно связаны с иудаистской традицией: там мы впервые сталкиваемся с таким взглядом на мир. Более того уникальность иудаизма — шире, того, что называют «единобожием» или «религиями откровения», «авраамизмом» и т.д. — на самом деле, вытекает не из формального, культового, исторического предания и священных текстов, но именно из уникального метафизического подхода — из креационистской парадигмы. Все остальное, что есть в иудаизме, кроме этой совершенно неожиданной, рискованной, чудовищной в каком-то смысле идеи, имеет аналоги и в других традициях. Конечно, содержание иудаизма колоссально, и практически все его постулаты могут быть перетолкованы в иной парадигматической модели, но его уникальность заключается именно в парадигме креационизма, монотеизма, и сопряженной с ним идее монокосмизма (если рассматривать имманентные аспекты).
Представители некреационистских традиций — индуизма, например, — в ответ на укор в «политеизме и «незнании единого бога» со стороны миссионеров, часто с удивлением отвечают: «это обвинение не состоятельное, мы не отрицаем единства Божества», и строго говоря, в этом они правы. Ведь, действительно, единства Божества, того, что есть один Бог, один высший принцип, они не отрицают, но они отрицают лишь то, что единый бог есть при этом единственный бог.
Конечно, и в самих креационистских традициях акцент на единственности ставится далеко не везде. Так, в христианстве догмат о Троичности Божества, оставаясь в рамках строгого единобожия и сохраняя основные постулаты креационизма, нюансирует эту теологическую позицию (особенно это характерно для Православия и, шире, христианской мистики). Исламский эзотеризм и каббала иудеев также максимально превозмогают единственность и монокосмизм, делая упор на единство (или даже всеединство). Наиболее радикальные выводы из креационистской метафизики делают протестанты, рационалистически ориентированные иудеи (линии Маймонида) и представители реформированного ислама (ваххабиты, салафиты, деобанди и т.д.).
Как же возможно творение такого монокосмистского мира? Для объяснения драмы актуалистской парадигмы, мы можем прибегнуть к одной очень экстравагантной мифологической конструкции — к каббалистической теории «цимцум» Исаака Лурии. Это известный каббалист из Сафеда, акцентировавший, на мой взгляд, некоторые важные в истории религии, в истории богословия «догматические и метафизические откровения». Он описал выразительным мифологическим языком, как происходит этот удивительный процесс творения из ничто.
Некреационистские традиции исходят из прямо, принципиально противоположного подхода: Бог творит мир расширяясь, переставая быть самим собой, утрачивая свое тождество с самим собой, делегируя его вовне, а потом собирая назад. Креационистская идея творения из «ничто» (актуализм и монокосмизм) проистекает из совершенно иного понимания космогонического процесса. Исаак Лурия назвал этот процесс цимцум. Это слово означает «сжатие», «сокращение», «возврат». Доктрина «цимцум» очень важна для понимания того, сколь глубокие и неожиданные корни имеет актуалистское мировоззрение.
Доктрина «цимцум» предполагает, что в истоке процесса творения лежит не расширение божества, а его сужение. Здесь открывается головокружительная перспектива: представьте себе, что самотождественное божество еще в предтварных сферах начинает прятаться от себя самого, скрываться, сужаться, убегать, исчезать, стягиваться внутрь самого себя... В этом стягивании божества самого в себя, в процессе божественного возврата, «цимцум», заключается понятная философская импликация монотеизма (или, как говорил Ницше, «монотонотеизма»). Для того, чтобы единое божество было подлинно тождественно самому себе и ничему другому, для того, чтобы единое было единственным, а не всеединым, оно с необходимостью должно прятаться и скрываться от самого себя, то есть оно должно постоянно стягиваться. Такой возвращающийся в себя, и вместе с тем вечно удаляющийся от вероятного мира бог, бог доктрины «цимцум» Исаака Лурии и есть фундаментальная метафизическая предпосылка возникновения тварной реальности. В этом сценарии отражено понимание некой фундаментальной драмы, которая заложена в пронзительно метафизически понятой и не сглаженной обращением к другим неактуалистским моделям концепции креационизма{2}.
Как в результате этого стягивания «цимцум» возникает мир? — Из пространства, появившегося в результате «отступления божества вглубь себя», возникает мир техиру. Это еврейское слово означает «пустоту», «пустыню» или «оставленность». Эта страшная реальность, согласно концепции Лурии, является метафизической основой нашего мира. Мир, понятый таким образом, строится на фундаментальной богооставленности. Процесс стягивания божества в центр самого себя высвобождает, актуализирует парадоксальное измерение, где нет бытия, поскольку бытие — бог, бог и бытие тождественны, ахейя ашер ахейя. Это освобожденное богом пустое место, «техиру» начинает жить своей совершенно чудовищной богооставленной жизнью. — Это и есть тот мир монокосмизма, тварный мир, где все существует только в актуальности, где все тождественно самому себе.
Модель космогенеза, описанная Исааком Лурия, несет на себе отпечатки глубокого ужаса, эта травматическая каббала закладывает основы радикально драматической метафизики, которая дала свои плоды в псевдо-мессианской революции Саббатаи Цеви{3}. На следующих этапах космогонеза эта драма продолжается, отражаясь в концепции «разбитых ваз». Из мира скрывшегося Божества бьют метафизические лучи, чтобы наполнить созданные из базе «техиру» «пневматической пустоты» сосуды. Но сосуды не выдерживают и рушатся. Трансцендентный свет вытекает и растекается по миру. С тех пор во Вселенной все трагично, запутано, не на своем месте. Конфликт и ужас продолжается и далее, вплоть до земной человеческой истории. Отсюда бездна страдания, выпавшая на долю евреев, хранителей этого страшного метафизического завета — завета о скрывшемся от себя самого творце и сосущем ничто...
Последователи Исаака Лурии пытались несколько его релятивизировать. Они сформулировали доктрину восстановления, тиккун{4}. Трудно сейчас с определенностью сказать, как видел исход из этой метафизической катастрофы сам Исаак Лурия. Можно себе представить, что выдерживать такой накал предельного метафизического напряжения было трудно. И все же самое интересное и самое страшное было бы оставить вещи так, как они были представлены в изначальной версии доктрины «цимцум»... Есть божество, которое стягивается внутрь себя, и есть парадоксальные отбросы этого его удаления, из которых и создан весь мир.
В таком страшном мире богооставленности все есть только то, что оно есть. Почему оно есть то, что оно есть, и ничего больше? Потому что, раз заведомо ни для какого существа нет даже теоретической возможности соприкоснуться с божеством, нет у существ и оперативно символической, онтологически означающей функции: они ничего не означают. Вещи означают отныне только самих себя, поскольку больше им нечего означать — бог ушел от них, и этот уход есть основная и главная причина и смысл их появления... Весь мир, явившийся из онтологического давления «техиру», пронизывающего все явленные формы, ничего не означает, кроме бесконечной тоски, немого воя богооставленности. Это чудовищная модель, но на самом деле именно она, как мы сейчас увидим, и является той парадигмой, тем модусом восприятия реальности, с которым все мы с вами бессознательно оперируем, поскольку именно это закладывается нам в голову как априорное условие осознания самих себя и окружающего мира, в той степени, в какой мы принадлежим Кали-юге, периоду конца времен, где правит специфический закон — закон современного мира, его языка, его априорной аксиоматики.
Таково мифологическое описание истоков актуализма. Сосредоточение внимания на этом парадигмальном моменте представляет собой некий болезненный удар по нашему естественному душевному, «инстинктивному» мировосприятию. Человек отличается от машины именно тем, что способен воспринять чистую актуальность как драму, помыслив ее, испытать радикальный ужас.
Человек только и может быть главным и единственным носителем великой печали, великой тоски, поскольку ни звери, ни ангелы, ни автоматы не отдают себе отчета в драме богооставленности. Никто, кроме человека, не способен схватить печальной метафизической вести «техиру», мыслить и действовать чисто актуалистски, проецировать на мир и на самих себя эту модель.
Здесь следует уточнить — речь идет не просто о человеке. В такой актуалистской перспективе человека как такового не существует, есть только индивидуум, частное, не имеющее возврата во что-то общее. Почему? Поскольку сзади него, в онтологическом истоке есть только «техиру», пустота, богооставленность, к которой нечего возвращаться, так как в ней принципиально ничего не содержится.
Этика иудаизма или этика креационизма (обратите внимание, как часто применительно именно к этой религии употребляется слово «этика», «мораль») заключается в том, чтобы творение (пропитанное испарениями «техиру», богооставленной — не божественной, но богооставленной, контр-божественной — пустоты) склонило свою голову перед абсолютно трансцендентным целым, к которому оно непричастно. Здесь есть две возможности выбора: одни индивидуумы признают, что они только «техиру», и что бог творит, удаляясь. Это «праведники». Но остальные люди, и особенно неевреи (гоим), понятия не имеют о драме, лежащей в основе мироздания, и всерьез убеждены, что с миром все в порядке, что духовные сферы свободно пронизывают всю реальность. Это — «грешники», потому что приписывают имманентной реальности божественное происхождение. «Грешники» жестоко заблуждаются, по этой логике они и подлежат контролю со стороны трагичных «праведников», которые знают, в чем «темная тайна» творения и способны на этом основании пасти «железным жезлом» все остальные народы.
По очень сходной философской логике движется мысль деятелей исламской реформации (ваххабитов, салафитов и т.д.). Ислам, безусловно, креационистская доктрина, но актуализм и прославление божества как того, что может открыться только через абсолютную смерть этой ничтожной инстанции — мира, характерен только для крайних новаторских течений, называемых подчас «исламским фундаментализмом». Ваххабиты метафизически очень близки к радикально креационистскому иудаизму, и нельзя исключить здесь некоторой общей метафизической филиации, передачи идеи монокосмизма и той страшной тайны, которая лежит в основе творения{5}.
В некоторых архаических традициях существует представление о, так называемых, deos otiosus, «ленивых богах», которые никак не соучаствуют в создании мира, в его делах, пребывая на недоступной высоте метафизики... Эти «праздные боги» в определенных чертах напоминают метафизически иудаистического бога, тождественного самому себе. «Праздные боги» стоят за пределом реальности, не могут и не желают оттуда уходить.
Теперь из метафизической модели иудаизма, где постулируются два полюса (монотеистический и монокосмический), попробуем отсечь один из полюсов — самый дальний, недоступный, божественный. Это очень просто сделать потому, что, освободив трансцендентное божество от всех дополнительных качеств, от возможности вхождения в мир, от способности влияния на мир, превратив его в deos otiosus, в бескачественное «праздное божество», мы получаем чистую абстракцию, от которой на следующем этапе совсем нетрудно освободиться вовсе.
Конечно, сохраняются особые носители памяти о «праздном божестве», потомки древних левитов. Многие века учили их помнить об этой инстанции, которую так легко забыть в практической жизни, мистическом опыте, религиозном рассуждении, поскольку она ровным счетом ничего не добавляет и не вычитает из общего состояния живущих. Это — сверхопытное утверждение, которое, по большому счету, ни из чего не вытекает и является, своего рода, «героическим произволом» авраамического жречества. Это — чистый волюнтаризм, подвиг Веры{6}. Здесь же скрывается тайный метафизический исток чистой морали{7}. Даже в самых бытовых предписаниях морали есть нечто метафизически необязательное, волюнтаристское, произвольное. На всей области морали и сопряженных с ней темами — вплоть до обучения, проповедей и т.д. — лежит столь ясно различимый след невыносимый скуки. Сфера морали всегда и заведомо лежит вне сферы опыта. И это качество влияет обратным образом даже на те ситуации, где, напротив, предписания, запреты или ограничения имеют эмпирический, опытный, технический характер. Почему дети так часто нарушают предписания родителей? Например, «не вставлять пальцы в розетку». Потому что дети ошибочно принимают интонации родителей в этом практическом случае за «моральное» наставление. И обучаются делать различие только после неприятных столкновений со стихией электрического тока напрямую... И только тогда наставление родителей осознается не как мораль. Это уже не deos otiosus, а реальное (довольно болезненное) присутствие, своего рода «святой ток», который сам говорит, сам за себя отвечает, и существо вступает с ним в живой, сверхморальный, опытный контакт. В целом же система запретов — «не трогай», «не делай», «не ходи» и т.д. — в своем онтологически необязательном моральном императиве, в той колоссальной скуке, которую она на нас навевает, хранит следы древнего представления о «праздном боге», которому надо поклоняться независимо ни от чего и непонятно зачем.
Теперь проделаем следующую операцию. Учитывая, что эта инстанция, постулируемая авраамическим жречеством, является неочевидной, необязательной, опытным образом не подтверждаемой и недоказуемой, что мешает нам ее просто отбросить, вынести за скобки, перестать учитывать? И если левитское колено будет в этом нам препятствовать, мы просто займем иную позицию — например, римлян Веспасиана, которые, согласно историческим хроникам, после взятия Иерусалима в 70-м году от Р.Х. вырезали всех левитов. Бога радикального монотеизма можно уничтожить, если уничтожить тех, кто верит в него. Можно пойти и иным путем, абсолютизировав «божественный отдых», шабат.
Оставаясь в рамках креационистского подхода и отбросив в то же время трансцендентный (неочевидный) полюс, мы получаем в остатке чистый «монокосмизм», картину мира, где есть творение, тварность, сотворенность, но нет Творца. Так, убрав одну из половин креационистской модели (монотеизм), мы получаем абсолютизированный монокосмизм, актуалистскую парадигму бытия.
Эта актуалистская парадигма (или атеистический монокосмизм) и есть базовая парадигма современного мира. Все собственно современное в парадигмальном смысле либо имплицитно подразумевает актуализм, либо заявляет о нем эксплицитно и прямо.
Современное, современный мир, le monde moderne, Новое время — это не просто то, что наступило после Возрождения, вместе с эпохой Просвещения, после Великой Французской революции и т.д., это четко проявленный дух, основные параметры и характеристики которого можно выразить в парадигмальных и метафизических терминах — это актуализм, экстенсивное распространение «монокосмического» представления о структуре реальности на весь спектр воззрений и практик человечества. Это не просто мировоззрение, но именно непроявленная матрица, которая направляет и предопределяет процесс исторического развития, начиная с определенного момента. А конкретно — с того момента, когда божество, которому поклонялась Европа, стало настолько абстрактным и моральным, что поместилось в симплистской схематике деизма, а затем и вовсе испарилось. Однако, на его место пришел не новый холизм (как казалось возможным в эпоху Возрождения), но именно урезанная версия монотеистического креационистского комплекса, полностью сохранившая основные пропорции монокосмизма{8}.
Статус потенциального в актуализме
Категорию возможного, потенциального мы будем рассматривать позже. Сейчас же заметим, что актуалистский подход по своему видит и ту категорию, которая несет в себе наиболее последовательную альтернативу для него самого. В рамках актуализма вполне можно говорить о категории возможности, но она будет существенно отличаться от того, как понимается категория возможности в потенциалистской системе (что, впрочем, верно и для категории «действительность», которая в контексте потенциализма также существенно меняет свое значение{9}.
Итак, актуализм понимает возможность как недо-действительность, как уровень квазиреальности, которая еще не «состоялась», «не сбылась». Единственным критерием, который отличает здесь возможность от невозможности, выступает то обстоятельство, что возможность реализовалась в действительности. Отсюда апостериори делается онтологическое заключение о том, что мы имели дело именно с возможностью, а не с чем-то еще.
В такой модели возможность полностью лишена автономного бытия, она заимствует бытие от действительного. Возможность полностью зависит от «монокосма», с одной стороны, и «монотеоса», с другой. Если посмотреть со стороны монотеистического полюса, то его абсолютное самотождество делает творение мира возможностью, но при этом отсутствие у мира собственного бытия или причастия к божественному бытию, лишает эту возможность онтологического содержания, т.е. возможность в таком случае является лишь неверифицируемой «гипотезой».
С другой стороны, со стороны «монокосма» возможность также вторична и не принципиальна. Независимо от того, насколько автономно мы этот монокосм рассматриваем, возможность всегда выступает как логическая рассудочная абстракция, как результат особой отвлеченной операции с действительной реальностью. Возможность представляет собой искусственное добавление к действительным вещам, продукт человеческого кодифицирующего рассудочного мышления. Никаким автономным бытием она не обладает, эмпирическому опыту не подлежит.
По мере радикализации монокосмизма такой рассудочной «гипотезой» становится и сам бог-творец деистских концепций, легко отброшенный атеистами Просвещения как необязательная, чисто умозрительная надстройка.
Процесс прогрессирующей парадигмальной ревизии
Конечно, это произошло не сразу. Элиминация трансцендентного и, что особенно важно, изживание инерциальных холистских комплексов в европейской культуре заняло целые века. Актуализм двигался к своей наиболее чистой парадигме — воплощенной в позитивизме — постепенно и поэтапно. И в определенном смысле, этот процесс незакончен до сих пор, так как, сегодня решительно побеждающий в различных прикладных областях, этот дух все труднее справляется с вызовами на чисто философском, теоретическом, научном уровнях. Став бытовой нормой, эталоном «политкорректности» в повседневной жизни, актуализм, напротив, серьезно ослабил свои позиции в области чистых идей{10}. И сейчас на повестке дня — авангардно сформулированная футурологом Дэниэлом Беллом максима: «культура препятствует прогрессу человечества». И вполне можно ожидать, что следующим шагом в стратегии актуализма будет элиминация культуры и науки, т.е. областей человеческого духа, которые создают больше всего проблем для дальнейшего укрепления этой парадигмы и ее окончательного триумфа.
Такой подход требует постоянной ревизии идейного наследия человечества, в котором наиболее последовательные сторонники «актуалистского духа» — среди которых такие наши современники, как Бернар-Анри Леви, Андре Глюксман, Юрген Хабермас, тот же Дэниэл Бэлл и т.д. — постоянно отыскивают и «разоблачают» элементы, конфликтующие с рафинированной и приближенной к идеалу актуалистской парадигмой. Смысл этой ревизии состоит в том, чтобы выявлять в науке, философии и политике Нового времени не просто реакционные течения (эта стадия уже пройдена), но те направления, которые, будучи внешне вполне «современными» и «прогрессивными», несут в себе инерциальные и завуалированные элементы предшествующих парадигм. Особенно серьезной работой в этом направлении стало переосмысление марксизма (и более частного случая — фрейдизма), проделанное либералами и «новыми философами», в результате которого выяснилось, что парадигмальный уровень в этой идеологии существенно отличается от основополагающих нормативов позитивизма. Формально постулируя «монокосм» и солидаризуясь с «прогрессом», марксисты, оказывается, через заимствование гегелевской диалектики и особой пантеистической онтологии с эсхатологическим подтекстом, сумели привнести в современную парадигму «гетеродоксальный», по ее критериям, комплекс идей, принадлежащих по своим глубинным основаниям к иной, неактуалистской парадигме, а еще точнее, к парадигме «усеченно холистской».
В этом вопросе работа по парадигмальной ревизии идет и на другом полюсе. Традиционалисты предшествующих поколений (Генон, Эвола и т.д.) считали марксизм предельной формой актуализма, поскольку в нем мы встречаем и материализм, и атеизм, и механицизм, и идею единственности мира, и прогресс — т.е. очень подозрительный набор концепций, связанный с языком современности. Но на самом деле, как это видно только сейчас (и не без помощи радикальных сторонников «современного духа») в сравнении с последовательным либерализмом и позитивизмом марксизм представляет собой квазимагическую, почти «средневековую» идеологию — особенно с учетом элементов, привнесенных туда русским большевизмом, конкретным опытом Советов. Таким образом, если до определенного времени некоторые направления мысли и политической практики считались — и сторонниками и противниками — закономерными явлениями современности, то по мере очищения и прояснения парадигмальной сущности современности как целенаправленного концептуального и метафизического процесса, выясняется, что часть из них, на самом деле, представляли собой замаскированные рудименты предшествующих циклов. Можно также предвидеть, что ряд явлений, сегодня причисляемых к ортодоксии современного духа, в будущем также будут опознаны как «неизжитая примесь прошлого», т.е. как элементы, в той или иной степени аффектированные Традицией и ее языком, а значит, «неактуализмом». В этом смысле следует обратить внимание на то, что наиболее последовательные либералы, носители крайнего актуализма — в частности, Карл Поппер, Фридрих фон Хайек, Раймон Арон, а также гегельянец Александр Кожев и т.д. — заранее предполагали и интеллектуально готовили те процессы очищения парадигмы современности от инерциальных элементов, которые стали массовым явлением в конце 70-х -начале 80-х и политическим фактом с начала 90-х. Можно и сегодня, не дожидаясь фактической реализации прогнозов крайних либералов, согласится с Даниэлом Бэллом или Фрэнсисом Фукуямой и представить себе завтрашний день «современного мира» в его идеальной стадии, где культура и история будут распознаны как реальности «неполиткорректные», поставленные «де факто» вне закона, как ранее были поставлены вне закона традиционные системы ценностей (»реакционность», «консерватизм»), а совсем недавно «марксизм», «коммунизм» и т.д., незадолго до этого считавшиеся вполне адекватными и законными элементами современности.
Выше мы говорили об актуализме как о базовом определении парадигмы современного мира и современного языка.
Теперь обратимся к тому, что не является «монокосмизмом» (и монотеизмом).
Здесь мы имеем дело с совершенно иной картиной мира, иной метафизикой, иной парадигмой.
В данном случае метафизический акцент ставится не на актуальность (действительность), но на потенциальность (возможность). Можно поэтому определить эту парадигму как потенциалистскую.
Потенциалистская парадигма не знает ни творца, ни твари, ни монотеизма, ни монокосмизма. Бытие в ней не является ни исключительным достоянием абсолютного божества (как в ортодоксальном монотеизме), ни актуального космоса (как в крайней материалистической модели монокосмизма). Бытие сосредоточено где-то между этими полюсами актуалистской картины мира. Все бытие, вся реальность сосредоточены в возможном. Это — средний уровень между эмпирически схватываемым миром — непосредственной действительностью и чисто умозрительной инстанцией абсолютной причины. Это промежуточное — возможно, оно и есть бытие.
Здесь очень важно понять, что основной акцент переносится с актуального на потенциальное, с действительного на возможное.
Бытие признается не за тем, что эмпирически есть (атеистический монокосмизм) или за чисто умозрительной реальностью, постулируемой (волевым усилием, жестом Веры) как высшее самотождество, но осознанной по прямой аналогии с тем, что эмпирически есть (деистический монотеизм). Напротив, бытие — это только возможность: есть только то, что возможно и только возможное есть.
Такой метафизический подход лежит в основе несовременной парадигмы, в основе языка Традиции. Онтологизация возможности и есть формула сакрального.
Несмотря на то, что наш рассудок и наша культурная подготовка пронизаны актуализмом, моделями актуалистского мировосприятия, все равно что-то внутри нас страдает от этого, что-то заставляет наши пальцы тянуться к розеткам, хвататься за вилку, нож, и целиться куда-то в податливые места на теле родителей или друзей, что-то говорит в нас иным неморальным голосом — в хорошем ли, в плохом смысле (здесь уже нет ни хорошего, ни плохого), и это что-то является залогом преодоления, спасения, новой нездешней свободы, залогом Возможности.
Евгений Всеволодович Головин очень выразительно описал в одной из лекций основы языческого мировосприятия, где понятия «пафос», «боль», «радость» и «страдание» вообще неразделимы — точно так же воспринимается реальность в потенциалистской парадигме. В пространстве возможности никогда нет строгих разграничений, поскольку эти разграничения обретают свой безотзывный объем лишь в пространстве «монокосма», где границы установлены раз и навсегда вместе с видами, типами, категориями, понятиями, полами, моральными критериями и т.д.
Потенциализм — это парадигма души; не духа, не тела, но именно души.
Потенциализм утверждает, что душа — это возможное. Это то, что предчувствуется, предвосхищается нами, брезжит, мерцает, косвенно напоминает о себе, посылает нам трудно расшифровываемые знаки, импульсы, но актуально мы не можем ее визуализировать, схватить, фиксировать, рационально описать. Душа постоянно ускользает; это — то, что, возможно, есть, и этого «возможно» достаточно.
Так обстоят дела на эмпирическом уровне. Так мы все переживаем. Традиция делает определенное усилие и приравнивает эту возможность к бытию. «Возможно» и «есть» не сопоставляются, не противопоставляются, не соподчиняются, но отождествляются.
Поэтому душа есть. Но есть только в том случае, если мы встаем на потенциалистскую точку зрения. В противном случае «гипотеза» души превращается в рассудочную конвенцию и может быть легко отброшена.
Сейчас мы говорим о потенциализме, и значит душа есть. Теперь, отправляясь от этой души, которая «есть», от этой сферы возможного, можно взглянуть и вверх и вниз.
Если посмотреть вниз, мы увидим тело. Душа может развиваться, конденсироваться в этом направлении, проецируя себя в телесную реальность, но эта телесная реальность никогда не является уникальной и единственной, раз и навсегда данной. Раз мы отталкиваемся от души, то никакое ее уплотнение не может стать фатальным и радикально изменить ее онтологический статус. Для души — тело это просто вектор реализации некоторых возможностей, дифференциации этих возможностей, их упорядочивания. Души не может не быть, а тело может не быть. А раз его может не быть, то оно может быть разным.
Традиции, которые говорят о «перерождении», о «переселении душ», о множественности существований души, о нескольких (или многих) телах, на своем символическом языке подчеркивают эту потенциалистскую истину. Тело никогда не самостоятельно, а телесные дистинкции никогда не влекут за собой онтологических и гносеологических коррелятов. При переходе от тела к душе — то, что выглядело различным, сливается, то, что казалось тождественным, расщепляется и т.д. Действительное не отрицается, но поглощается возможным, растворяется в нем, рассасывается в нем. Смерть, сон, погруженность в мечту, медитацию или просто созерцание опрокидывают телесное (актуальное) в матричную инстанцию возможного.
Тело для живой души — это выпроставшаяся гипотеза низа. Душа никогда не уверена в абсолютности существования тела. Это лишь представление, предположение души{11}. Тело есть проявление следственных аспектов души-возможности. Но было бы совершенно неверно рассматривать в данном случае тело как простую иллюзию. В данном случае — в отличие от актуалистской картины мира — предположение, представление, гипотеза означают не рассудочную абстракцию, а оперативную рождающую производящую силу. Тело онтологично и реально в той степени, в какой оно является импульсом души, которая и есть хранилище живого бытия. Как только тело берется само по себе, оно мертвеет и исчезает. Душа распускает узел своей гипотезы, и ее творящие силы снова возвращаются к ядру.
Потенциалистское понимание тела прекрасно объясняет такое понятие, как «тело сновидений». В фольклоре, мифах, легендах, преданиях, но также в материалах современной психологии и особенно психологии глубин содержится множество сюжетов о том, как человек, ярко видит, переживает во сне определенную ситуацию, где он активно участвует и делает какой-то отчетливый жест, к примеру, передвигает некоторую вещь, а после пробуждения оказывается, что совершенное во сне изменило состояние соответствующих предметов наяву. Это действует «тело сновидений», для которого границы между душой и телом лишь возможны, гипотетичны, никогда не актуальны. Миры бодрствования так же гипотетичны, как миры снов. Они реальны и не реальны одновременно. Ни то, ни другое не действительно. И то и другое возможно.
Потенциализм никогда не абсолютизирует фактическую сторону событий. К примеру, «в данный момент мы находимся в центре Москвы, в зале, присутствуя на последней лекции Нового Университета в ХХ веке». Потенциализм утверждает это с определенной долей приблизительности. Положим так: «вероятно, в данный момент мы находимся в центре Москвы, в зале, присутствуя на последней лекции Нового Университета в ХХ веке». Добавление «вероятно» насыщено высшим метафизическим содержанием. За ним стоит определенная неуверенность, свобода интерпретации пространства и времени, вопросительность относительно того, кто такие эти «мы», существуем ли «мы», кто из нас — «мы», каковы наши души, какова метафизика этих «мы»... Ясность факта улетучилась... Свобода самосознания и сознания расширена. Что такое время? Что такое пространство? Что такое «город», «Москва», «центр», «век», «последнее» и т.д.?
Неуверенность — вероятный характер утверждения — позволяет предположить, что кто-то из нас в данный момент может находиться где-то еще. Да и само время, в котором мы пребываем, может быть не однонаправленным, не раз и навсегда данным, фиксированным, мертвым, но более сложным, загадочным, способным выходить на определенные искривленные траектории, в некоторых случаях двигаться вспять. Православное предание утверждает, что, когда Исус Христос вступил в Иордан, чтобы принять святое крещение, воды его потекли вспять. С точки зрения актуализма, так не бывает, так как не подтверждено практикой, наблюдениями, противоречит физическим закономерностям. Но вот с точки зрения потенциализма, так бывает, так может быть, это даже, в некотором смысле, вполне нормально. Конечно, с тем фактом, что обычно воды текут не вспять, а по течению реки, никто не спорит, этот так, но это совершенно не абсолютно. Это лишь вероятно. Это подтверждается наблюдением и опытом — но наблюдения и опыт не абсолютны. Применительно к Богу и Сыну Божьему неабсолютность (но «вероятностность») факта или закономерности вскрывается. И воды вполне реально текут вспять. Вероятно, текут вспять.
Все связанное с реальностью тела, природы, физики, фактов и событий, в конечном итоге, есть развернутые гипотезы души относительно низа. Эти гипотезы имеют определенную структуру, они не равновероятны, но в любом случае все они не более, чем гипотезы.
Живая масса души, существующая сама по себе и в самой себе в пространстве потенциальности, может выдвинуть и гипотезу верха. Это вектор ее влечения в сторону причины. В таком случае она производит божество (отсюда греческая практика теургии, «понуждение божества»). Не то, чтобы это божество не существовало само по себе, нет оно существует, но как возможность, причем по отношению к душе эта возможность более общая, более фундаментальная. Это каузальная возможность.
Потенциалистское божество может быть единым, и энергии души, восходящие к горизонтам онтологии, обязательно утвердят такое единое божество, хотя это совершенно не обязательно, так как помимо этого высшего горизонта существуют более частные горизонты степеней или стоянок, по которым должна восходить душа, влекомая в горнее. Утверждение единства божества не принципиально для потенциализма, не несет никакой особой «моральной» нагрузки — если на практике двигаться вверх, рано или поздно это обстоятельство станет достоянием высшего опыта, а если ограничиться промежуточными сферами, то данное знание ничего не прибавит и ничего не убавит. Но даже признавая единство божества, потенциалистская модель никогда не признает единственности божества, не допустит существования божества как актуальности, как онтологического самотождества, по формальной логике равного только себе и не равному ничему, кроме себя.
Божество, если и едино, то непременно всеедино, это панпсихея, «мировая душа», пропитывающая своей жизнью все отдельные сгустки возможности.
Такое божество не действительно, оно возможно. Но это означает в данной потенциалистской парадигме, что оно есть и есть схожим образом, как есть сама душа или тело. Все различия — в степени, не в природе. Сами границы между этими реальностями — потенциальны, всегда могут быть изменены. Это живые границы.
С точки зрения потенциализма, действительности, в конечном итоге, не существует. Это лишь приближение, гипотетический предел, никогда не достижимый в реальности. И самое низкое, плотское, и самое высокое, божественное, не бывают полностью актуальны, они всегда лишь возможны.
Потенциалистское отношение к Богу, Божеству исходит из парадигмы, противоположной креационистской концепции, подразумевающей полную актуальность (единственность Божества) и мира. В отличие от драматической концепции Исаака Лурии (»цимцум»), здесь Божество проявляет мир через принцип несамотождества, через нарушение самотождества, через отрицание своей «единственности», и как следствие, утверждение «всеединства». Даже несколько сложнее. Божество не только утверждает, что оно неравно самому себе, но оно утверждает, что при этом оно и не неравно самому себе. Оставаясь целым, оно производит части, потом эти части собираются вновь, в целое, но и будучи распределенным на части, Божество не прекращает быть целым, и сами эти части никогда не есть только части и ничего более. В определенном смысле часть здесь равна целому, а целое — части. Хотя бы потому, что неравенство никогда не бывает абсолютным, точно так же, как равенство.
Всегда возможно, что да, возможно, что нет.
Потенциалистское отношение к догматике, к богословию, к мистике и метафизике основано на фундаментальном опыте. Это можно назвать «опытом души», когда возможное схватывается, осознается, переживается, интериоризируется как реальное.
На потенциалистском подходе основаны большинство сакральных традиций вне авраамизма и креационизма, и даже в этих последних существует множество наложений потенциалистской парадигмы на актуалистскую — в мистических и эзотерических направлениях иудаизма и ислама, в области самой догматики (принципы тринитаризма, боговоплощения, таинства, сотериологии и т.д.) в рамках христианства. Потенциалистским органом восприятия является сама человеческая душа. Естественное мышление человека в своих основаниях является также потенциалистским.
Для актуалистской парадигмы потенциалистская манера понимания вселенной является злом, заблуждением, пережитком, предрассудком. Логика потенциализма воспринимается как нечто ущербное, патологическое, архаическое, достойное брезгливого презрения или высокомерной жалости. В любом случае, актуалисты считают: «потенциализм есть нечто, что следует преодолеть».
Для человека потенциалистской модели нет представления о безотзывном, однонаправленном и решительном свершении. Свершилось? Да. Но, может быть, еще нет. Может быть, еще нет. Так говорил Хайдеггер в одном своем эссе в «Holzwege», рассуждая о точке конца: «Мы стоим вплотную к точке конца (и сегодня накануне странной даты 1 января 2000 год нам тоже следовало бы задуматься об этом какого-то — А.Д.); мы стоим вплотную к точке конца. Но, может быть, еще нет. Всегда это еще нет».
Теперь обратимся к «иным мирам». «Иные миры» это
революционная, мистически оформленная мысль (или, скорее,
догадка) о потенциализме. Потенциализм (по вполне понятным
причинам) предполагает неединственность нашего мира. Как
только мы перемещаем центр тяжести реальности из
действительного в возможное, открываются беспредельные
перспективы многообразного творчества, которые и есть
различные сгустки, полюса, узлы созидательной энергии,
действующей сферически и тайно образующей в пределе
неопределенно большие поля действительного — множественные
миры, поля поликосмизма.
Актуализм представляет собой
темницу души, актуалистский монокосм препятствует творческой
способности космотворчества. Там, где душа обретает свободу,
она не просто сталкивается с иными мирами как с иными
актуальностями, она обретает гораздо более глубокую и
существенную способность — она может актуализировать новые
миры сама. Но здесь следует обратить внимание на качество
освобождения — обычная смерть не является таковым. Только та
душа, которая при жизни встала на путь метафизической
реализации, волюнтаристски утверждая иллюзорный характер
монокосма и постулируя как волевую данность поликосмизм
реальности (хотя это еще не является объектом прямого опыта),
способна достичь этого оперативного теургического уровня.
Обратим внимание на один термин, который используется в современной физике (в частности, в теории хаоса), — бифуркация (по-латыни «вилка», «развилка», «разветвление»). Рассматривая этот термин, можно составить себе представление о разнице между актуалистским представлением о единственности мира и потенциалистским представлением о множественности миров (об иных мирах).
Бифуркация — это примерно следующее. Представим себе, что определенный процесс, путь движущейся частицы, идет по одной траектории. До некоторого момента этот путь определяется однозначно, исходя из знания начальных параметров и состояния среды. Но когда этот момент настает, ситуация резко меняется. Это и есть точка бифуркации, в которой дальнейшее движение частицы непредсказуемо. Или, вернее, никакое точное знание об исходных параметрах и состоянии среды не способно помочь в определении того, по какой из вероятных траекторий пойдет частица. Такие бифуркационные процессы называются также «несводимыми», а уравнения, их описывающие, «неинтегрируемыми».
Пример такого процесса — кипение воды. В определенный момент ее закипания совершенно невозможно точно определить, где окажется конкретная молекула воды. Общее состояние вещества вполне вписывается в уравнения фазовых переходов, но отдельные молекулы действуют непредсказуемо. Нет никакой возможности определить, какие именно молекулы превратятся в пар первыми... Из решения аналогичных проблем развилось еще в XIX веке направление статистической физики. Бифуркационные процессы и состояния хаоса описываются в современной физике через обращение к теории вероятности. В таком случае речь идет не о действительной траектории, но о вероятной. Для актуализма, тем не менее, процесс бифуркации мыслится таким образом: одна из вероятных траекторий движения после точки бифуркации будет действительной, другая — недействительной, хотя заведомо нельзя сказать, какая будет какой.
С точки зрения потенциализма, бифуркационный процесс проходит не по модели «или-или», «в одну сторону или в другую», но сразу в двух направлениях. Вероятность осмысливается как достаточное основание для реальности процесса. Показательно, что, с точки зрения точности измерения, оба подхода приблизительно равнозначны. Здесь проявляется представление о многослойности, многомерности реальности, о наличии в каждой вещи, в каждом существе неких дополнительных внутренних измерений, которые просто не проявляются в действительности как событие, переживание или мысль. Это иные залы, другие комнаты, вложенные пространства. Дойдя до определеной точки выбора, до развилки, мы можем пойти по тому или иному пути. В мире души можем пойти сразу в обоих направлениях. Для актуализма это непредставимо, и хаотическая неопределенность рассматривается им как ограниченность нашего рационального знания о единственном событии, но не как раздвоение самого события или участвующего в нем субъекта, что абсолютно реально в потенциалистской парадигме.
Сегодня перед началом лекции меня спросили: «Что Вы имеете в виду, называя лекцию «Иные Миры», у вас есть о них серьезная информация?» Это расхожие штампы, будто «иные миры» — это значит, что что-то должно вторгнуться в нашу актуальность и действительным образом расширить наши представления о ней. На самом деле, иных миров, которые бы внедрились в наш действительный мир, другого параллельного, столь же действительного мира, нет. Реальность иных миров схватывается не путем усложнения актуального мира, не путем расширения представления о нем или его освоения, не через исследование его дальних рубежей, но движением в абсолютно ином направлении — не в даль, не на границу, не на периферию, а внутрь, через инициатический опыт. Об этом опыте разрыва мы говорили на прошлой лекции. Человек, переживающий этот опыт, вскрывает в себе тот потенциал, из которого ткутся и в котором возникают, обнаруживают себя иные миры. И осуществив опыт разрыва, от шутливого предположения, что, находясь здесь, мы можем находиться одновременно где-то еще, мы способны перейти к довольно пугающей уверенности в этом, подтвержденной ярким личным переживанием, персональным опытом. Причем это нахождение одновременно где-то еще может иметь как метафизический смысл погруженности в реальность души, так и магический — явления «билокации», одновременного пребывания в телесной оболочке сразу в двух местах, о чем свидетельствуют как жития святых, так и истории про колдунов и магов. Человек, узнав миры души, обретает все иное — иные глаза, иное тело, иное видение, иную форму. Про эту «иную форму», про вскрытого, реализованного через инициатический опыт разрыва двойника уже невозможно сказать, что он пребывает в этом актуальном мире. В этом случае невозможно также утверждать, что мир продолжает существовать так, как он существовал до этого. Неизвестно, более того, был ли он когда-либо таким, как мы его воспринимали, вообще.
Поэтому вопрос об открытии иных миров — это не вопрос межзвёздных галактических авантюр, не вопрос поиска и движения к границам актуальной Вселенной, не экстенсивное действие, но действие интенсивное, действие сакрально-инициатическое, движение внутрь тех измерений, которые находятся в нас в «компактифицированном» виде (говоря языком современной физики). Эти измерения, где пребывают иные миры, сосуществуют параллельно, равновозможно, равновероятно с нашим миром, в них разворчивается полноценная, напряженная, интенсивная, разнообразная жизнь, гораздо, кстати, более полноценная, чем у нас. Иные миры — это миры, существующие параллельно нашему, как масса бифуркационных траекторий, которые скудные инструменты рассудка не смогли зафиксировать.
Теперь маленькое отступление о Ницше. У Ницше есть в «Так говорил Заратустра» глава о «стремящихся в иные миры». В ней он советует не стремиться туда, утверждая, что это — лишь пассивное бегство от невыносимой тяжести имманентного существования. Ницше имел в виду не совсем то, что под «иными мирами» понимаем мы. Однако чисто философский язык не позволяет точно выразить определенные реальности. «Стремящиеся в потусторонние миры» у Ницше — это как раз те, кто не в силах реально преодолеть актуалистскую парадигму и пытаются для облегчения перенести внимание на тиражирование такой же актуальности. Не случайно «потусторонние миры» современных Ницше спиритов, оккультистов и теософов мыслились как точные копии нашего актуального мира. Ницше призывает углубиться внутрь себя, «проверить своим внутреннм огнем свою собственную истину», что должно являться не бегством от актуальности, но победой над ней.
Концепция «иных миров» и потенциалистская модель теснейшим образом связаны с инстинктом революции, с пафосом революции. Почему? С точки зрения актуализма, мир представляет собой заведомую данность, любое изменение которой не может отменить или изменить логику функционирования структуры реальности, кардинально повлиять на причинно-следственные цепи, предопределяющие прошлое, настоящее или будущее. Яснее всего это проявилось в протестантской этике, ставшей теоретической основой современного капитализма и либерализма.
С точки зрения Кальвина, существует концепция предестинации (а современный протестантизм — это и есть абсолютизированная концепция монотеизма в совокупности с монокосмизмом). Так, концеция предестинации, «предназначения» протестантского вождя Жана Кальвина гласит, что каждый человек получает вознаграждение не только в посмертном существовании, но здесь и сейчас. Поэтому бедный или неудачник (looser) является таковым закономерно, и социально-экономическая второсортность рассматривается как промыслительное указание на моральное зло и метафизическую несостоятельность индивидуума. Наоборот, богатство и преуспеяние, независимо от его происхождения и источника, осмысляются как признак избранничества, внутренне благой природы обладателя. Отсюда — теория «блаженных имущих» (beati possedenti) и «грешных неимущих». В протестантской теории «предестинации» мир настолько единственен, что не предполагает несправедливых или безосновательных ситуаций. Действительный факт приобретает абсолютное значение. Вся онтология и антропология фундаментально консервируются, динамика резервируется лишь для стихии свободного обмена актуальными продуктами между актуальными же индивидуальными субъектами. Именно здесь, как показали Макс Вебер и Вернер Зомбарт, следует искать истоки метафизики капитализма.
Соответственно, модели социализма или метафизика революционной доктрины основываются как раз на идее множественности миров. Следует напомнить случай Огюста Бланки, великого французского революционера, философа и заговорщика, который был также автором трактата о множественности миров{12}. Социализм и метафизика революции исходят из фундаментальной предпосылки о том, что возможен иной мир, что богатство и бедность, господство и рабство, социальный успех и неудача являются лишь условными и необоснованными онтологически распределениями ролей и функций, а следовательно, могут быть пересмотрены. Это потенциалистское измерение социализма, революционных идеологий вообще, делает их доктринами, стоящими гораздо ближе к традиции, к ее языку, нежели креационистские теологии и тем более концептуальные продукты их секуляризации. Это тайное родство революции с консерватизмом не совсем очевидно и распознается лишь при использовании парадигмального метода. Другими словами, одинокий фанатик Бланки или взвинченные эсеры, бросавшие бомбы во имя иного лучшего мира, актуально не существующего, но возможного, просвечивающегося из глубины их больных и тоскующих душ, являются в большей степени хранителями традиции, чем креационистские проповедники абстрактного добра или протестантские проповедники морали.
По большому счету, между актуализмом и потенциализмом во всех их проявлениях — и ортодоксальных и еретических, экстремистских — существует фундаментальное напряжение: такое же, как между языком традиции и языком современности, сушей и морем, трудом и капиталом.
Следует учитывать, что в наши дни актуалистская парадигма как в своей метафизической версии, так и в секулярном политэкономическом воплощении — в форме либерал-капитализма — одерживает планетарную победу надо всем спектром потенциалистских альтернатив, сформулированных полноценно метафизически и секулярно, социал-революционно. Это и есть глобализм на философском уровне, триумф парадигмы актуализма, утверждающей принципиальную невозможность иных миров.
Если взглянуть на актуализм и его триумф с позиций нашей собственной метафизической традиции, то наиболее адекватным термином для понимания актуалистской парадигмы является старообрядческое беспоповское учение о духовном антихристе. Духовный антихрист — это вязкая квазионтологическая ткань, «техиру», богооставленная пустота, которая охватывает мир, проникает в наши души, извращает наши мысли, чувства, делает нас тем, кем мы являемся. Те, кто знаком со старообрядчеством, знают, что подчас сборники духовных бесед или стихов, обличающих падение современности, назывались «адскими газетами». «Губернатор N поехал в город N-ск , был дан бал в честь местной администрации, в суде состоялось слушание дела о взятках, открылась корчма, скончался урядник и другие актуальные новости из действительного мира» — все это составляло хронику событий «адской газеты». А на том месте, где в газете «Правда» была надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь», у староверов значилось: «Пришла газета с того света, в ней новости из ада».
Старообрядцы как фундаменталисты языка традиции именно так видят актуальность, действительность после раскола, когда, по их мнению, потенциальная Святая Русь была отколота от действительной десакрализованной России.
Известный немецкий писатель, один из крупнейших теоретиков Консервативной Революции, Эрнст Юнгер перед смертью в своих дневниках, статьях и письмах высказал очень интересную идею. Согласно ему, ХХ век был веком титанов, а следующий век должен быть свидетелем, как эти титаны породят богов. Концепция титанизма у самого Юнгера была тесно связана с потенциализмом. Титаны — это не моральные герои, которые заведомо пронизаны темным излучением актуализма, стремлением служить отчужденным ценностям, задавлены нормативами отвлеченного обучения, которое, на самом деле, лишь калечит душу, а не пробуждает, не оздоровляет ее. Титаны — элементарные существа, дышащие под бременем актуализма, стремящиеся выбраться из-под него.
В этом антропологическом ключе с упором на новый титанизм Юнгер развивал теорию Консервативной Революции. Он полагал, что титаническое начало ищет выражения сквозь различные идеологии современности — в либерализме, фашизме, социализме, демократии, в науке, искусстве, культуре, войнах, политике, терроре, наркотиках, экологии, философии, социальной критике.
Что такое титан? Титан — это тот, кто утверждает опытным образом наличие иных миров, который действует в пяти-шести-семи-десяти измерениях сразу, а не только в одном, руководствуясь импульсами донных, глубинных онтологических пластов.
Перед самой смертью Эрнст Юнгер в своем дневнике писал примерно следующее:
»Я вижу сон о будущем, каким я вижу это будущее. Я нахожусь в Париже в тех местах, которые я очень любил. Я подхожу к бармену, своему знакомому бармену Фредди. Вдруг я замечаю, что что-то не так. Бармен Фредди ведет меня по парижским улицам, но я периодически отмечаю, что знакомые мне места в чем-то изменены. Я замечаю, что кругом появляются какие-то странные дымы, что возникают и исчезают на глазах предметы. Я пытаюсь сфокусироваться на этом и вижу, что весь мир дрожит вокруг меня и во мне, что я растворяюсь в некоей хаотической реальности и чувствую, что моя душа неспособна вынести этого многообразия измерений, с которыми я столкнулся в этом непривычном Париже, Париже XXI века, Париже титанов».
И тогда Юнгер обращается к бармену Фредди, в котором он потом, трактуя свой сон, видит свое высшее Я, а тот ему говорит: «Держись, титан должен выдержать испытание иными мирами, испытание тем, что иные миры, которые существуют в качестве возможных, явятся тебе в качестве действительных и все разом».
С какой-то точки зрения, действительно, мы стоим на пороге века титанов, но это довольно плоское, на мой взгляд, описание великого немецкого писателя Эрнста Юнгера бледнеет перед гениальным манифестом Юрия Витальевича Мамлеева, который я позволю себе привести целиком.
Этот манифест называется «Титаны».
Юрий Мамлеев
«Титаны»
Сплошная черная ночь опустилась над нами.
Николай Семенович прилетел.
Как тих и развратен его лик, когда он смотрит в окно нашего жилья! Почему он не свалится с этой ветки, а вечно поет?! Как холоден его зад, который уже давно отвалился!
Мы так любили играть на нем в чудики.
Вот и Валерий вышел опять. Изахохотал. Ночью нам еще виднее. Они начинают играть в прятки. Сначала Николай Семенович бьет Валерия, потом Валерий бьет Николая Семеновича. И оба снимают друг с друга короны, похожие на листы.
Валерий уже оказался за двести верст от Николая Семеновича. Там присел Василий, которому трут уши. Этими ушами можно слушать самого Творца, но из ушей его сыпятся вши. Размножаясь, они покидают города... Валерий прикоснулся. Зад его потемнел от скорби. Скоро, скоро будет конец.
Улетел! Как он любил летать над городом, разрушая его своей мочой! На сей раз гуляла мирная девочка лет одиннадцати. Веснушчатым шаром — без рта — упал ей в передник.
— Кыш-кыш-кыш! — закричала девочка. — Уходи, мышонок!
И она побежала навстречу солнцу, которое уже давным-давно было черное-пречерное. Исловно опускалось в огненные лапы.
Валерий облобызался с Николаем Семеновичем, стоящим рядом.
— Ги-го-го! — закричал Валерий.
Звезды меркли от этой тишины. Ау Арины Варваровны было три лика: один, несуществующий, превратился в камень, который годами облюбовывал Николай Семенович; второй — тонкий, змеевидный — был до того отчужден от нее, что напоминал ее зад, если б таковой был; третий уже принадлежал другому миру.
Выпили. Николай Семенович, когда пил, всегда умирал, на время; да и до смерти ли ему было, когда он глядел красными, раскаленными, как уголь, глазами на этот черный мир?!
Валерий же, когда пил, скрючивался от боли, как поломанный чайник, и выпускал из себя нехороший свист.
Одна Арина Варваровна была тиха: она все думала о том, что у нее на сине-белом животе должен прорезаться близкий ей лик, которым она не боялась бы смотреться в зеркало. Трогая живот своими скрюченными длинно-медленными пальцами, она пыталась выдавить-проявить там лицо, напевая пальцами песенку. «Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!» — вился у нее между ног белокурый мальчик, обливаясь ее потом, как молоком.
А кругом было много, много, как планет, песен! Правда, неслышных. Даже Василий — у себя, за двести верст — не слышал ничего. Ибо голос Бога превратился у него в тиканье часов. Но что слышали другие?!
Все повернули головы к Самойлову, виднеющемуся на горизонте, как скала. Почему еще не проходили мимо него тучи? Но городские любили лазить по Самойлову, считая его самой высокой горой. И вывешивали на его вершине флаг. На самом деле Самойлов так очерствел, потому что весь был покрыт гробами. Говорили, что в этих гробах хоронились его прошлые жизни.
— К Самойлову, к Самойлову! — завизжала Арина Варваровна так, что у нее чуть не отвалилась змеевидная голова. — К Самойлову!
Ее не смущал даже пар, исходящий из гробов...
Самойлов сузил свои закрытые глазки. Началось пиршество. Акак тосковал Василий, слушая тиканье часов! О, если бы они были боги!!. Почему так странно отражается в небе лик Арины Варваровны, ушедший в другой мир?!. Звезды улетают прочь от этого видения. Авот и приполз Загоскин. Арина Варваровна обычно щекотала тогда свое брюхо хвостом, вырастающим из земли... Загоскин не любил эти картины. Он так искал странные лики Арины Варваровны, точно хотел стать полотенцем, стирающим с них грязь. Волосы вставали дыбом от такого удовольствия.
Самойлов любил их всех принимать. Он суживал свои глазки, так что они выкатывались внутрь, в свое пространство, чтоб не видеть гостей. Как смеялся тогда Самойлов, любуясь их тенями! Это было его тихое развлечение, почти отдых, потому что, хотя жизнь его была скована гробами, в ней был непомерный свет, отрицающий все живое. И Самойлов всегда улыбался этому свету в себе такой улыбкой, что многое зачеркивалось в мире. Он никогда не искал лики Арины Варваровны, считая, что это не для него.
Он думал, правда, о высшем, верхнем лике, но его не было. Акогда его не было, тиканье часов в ушах Василия превращалось в звон. Этот звон не напоминал о душах умерших.
«Сорвать, сорвать гробы, — думал Валерий, отлетая то в сторону, то к югу. — Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!»
И от его плевков смывались города.
Он любил превращать проклятие в акт благодати.
Но из гробов никто не выходил. Только черно-красные тени порой, как проекции демонов, восходили от гробов к звездам, как будто вокруг курили и жгли костры, заклиная... Но уже давным-давно не было магов. Да и зачем они были бы здесь нужны?! Все и так прекрасно виднелось...
А Самойлов ничем не отвечал на призывы Валерия. Он смотрел в свой свет, который не умирал, обнимаясь с тенями.
И вдруг завыла Арина Варваровна. Это прорезывался новый лик на ее животе! Тот, что должен быть ей близок. Своим отчужденным змеевидным ликом она смотрела в свое дитя-личико. Ией виделись там виселицы и звезды.
— Хо-хо-хо! — заливалась Арина Варваровна.
Но вдруг дух ее помутнел.
«Есть ли там, за виселицами и звездами, родное, мое родное?!! Или ничего нет и все мне кажется — и виселицы, и звезды, а есть только отражение моего змеиного, отчужденного лица в моих новых глазах?! — думала она. — Но почему же так сладко на сердце?! Может, наоборот, в моем отчужденном лике уже отражен новый лик?!»
И все заходили, заплясали вокруг ее живота. Валерий, уменьшившись до полена, впрыгнул в яму на теле Николая Семеновича, где раньше была задница. И Николай Семенович заскакал, как кенгуру. Только кто был самкой, кто детенышем?
А далеко на горизонте, у полыхающего огня, куда опускалось черное солнце, провиделась фигура Василия. Он одиноко брел, разговаривая с воплотившимися часами.
Однако Загоскин бешено искал лики Арины Варваровны. Запутавшись в тенях других миров и в несуществующем, он то хохотал, изменяясь ликом, то рыдал, отчего у него светлели волосы.
— Господи, Господи! — бормотал он.
Ночь все чернела, и все больше виделось.
Наконец, бросив все, скрючившись, как лягушка, он — на четвереньках — присел около Арины Варваровны, пристально всматриваясь в ее новый, появляющийся лик. И Арина Варваровна тоже пристально вглядывалась в этот лик, застыв непонятной головой. Так оцепенели они на несколько мгновений. Тень другого лица, ушедшего в иной мир, с неба приблизилась к ним, повиснув близко, как крылья птицы. Кругом из стороны в сторону скакал Николай Семенович — Валерий. Угрюмо молчал Самойлов.
И тут Загоскин, опередив змеевидный лик Арины, который мог бы уже оторваться от нее, яростно исчез... Но сама Арина ничего не заметила. Загоскин пропал, словно утонув в новом лике.
— Где родное, родное?! — выла Арина Варваровна, всматриваясь в себя, как вампир.
И вдруг вскрикнула:
— А... А!! — точно что-то увидела, и разгадка мелькнула на ее несуществующем лице. Инаверное, это видение было решающим, возможно, утвердительным ответом, потому что она тут же забыла его не то от ужаса, не то от бездны.
— Нет, нет родного!! — закричала она потом, точно очнувшись.
По существу, его и действительно не было.
И тогда все закричали, завыли и полетели. Одного Самойлова не было. Первая полетела Арина Варваровна. Точно ее лики смешались друг с другом и она смотрела на Землю уже одним глазом, упоенным и настойчивым.
В стороне от нее, как веера, разлетались жирные, в пиджаках, дядьки с крылышками и мясистыми затылками. Сталкиваясь задами, они как бы совокуплялись, отчего мелькали искры. Но сами они были еще неприятнее этих искр, хотя в то же время устойчивы. Двигалась тьма, словно совсем живая. Валерий вылетел из тела Николая Семеновича. А последний, оседлав камень, тот камень, который представлял несуществующий лик Арины, летал на нем, облюбовывая его и дивясь миром.
Так летали они долгие дни и ночи.
Это мамлеевский манифест иных миров, фотосъемка реальности, увиденной не в ее удушающе действительном аспекте, а в том, какой она является по сути и какой она может быть. Следующий век, следующий эон либо будет веком титанов, которым будет под силу вынести его, создать его, проявить его, веком героев новых метафизических революций — со всем их тяжелейшим внутренним содержанием, со всем ужасом, немыслимой тяжестью того, что им предстоит вынести и осуществить, либо актуалистская гипотеза действительности, существования только действительного окончательно кастрирует мир, изгонит из него, вырежет то измерение, которое делает реальность стоящей, достойной того, чтобы в ней жить, чтобы в ней умирать. Это не сухое академическое знание, но руководство к прямому метафизическому действию, как и все лекции нашего Нового Университета.
Примечания
{ 1 } «Греческое слово
paradeigma дословно означает «то, что
предопределяет характер проявления, манифестации,
оставаясь вне проявления» (para — это «сверх»,
«над», «через», «около», а deigma — «проявление»,
«манифестация»). В самом широком смысле, это исходный
образец, матрица, которая выступает не прямо, но через
свои проявления, предопределяя их структуру. Парадигма —
это не проявленная сама по себе и не поддающаяся прямой
рефлексии структурирующая реальность, которая, всегда
оставаясь за кадром, устанавливает основные базовые,
фундаментальные пропорции человеческого мышления и
человеческого бытия. Специфика парадигмы состоит в том,
что в ней гносеологический и онтологический моменты еще не
разделены и подлежат дифференциации лишь по мере того, как
базовые интуиции, проходя через парадигматическую решетку,
оформляются в то или иное утверждение гносеологического
или онтологического характера. Термин «парадигма»
использовался в платонической и неоплатонической философии
для описания некоего высшего, трансцендентного образца,
предопределяющего структуру и форму материальных вещей. В
методологию истории науки его заново ввел Г.Бергман,
понимая под этим некие общие принципы и стандарты
методологического исследования. Более широкое (чем у
Бергмана) толкование дал термину Т.Кун, обобщив в нем
общий контекст научных представлений, аксиом, методов и
очевидностей, предопределяющих общепризнанные установки,
разделяемые научным сообществом в конкретной исторической
ситуацией. Кун сделал парадигматический метод исследования
приоритетным инструментом для изучения структуры научных
революций. Уточненным синонимом «парадигмы» у Куна
выступало понятие «дисциплинарной матрицы». Еще более
широкий смысл вкладывал в этот термин Ф.Капра,
предложивший противопоставление двух парадигм — старой
(классической, картезианско-ньютоновской) и новой, которую
он называл «холистской» или «экологической», призванной
заменить собой рационально-дискретную методологию
ортодоксальной науки Нового времени. (...) Под ней
[парадигмой] мы понимаем обширный комплекс непроявленных
установок, предопределяющих саму манеру понимания и
рассмотрения природы реальности, которые могут в
оформленном качестве порождать многообразные философские,
научные, религиозные, мифологические и культурные системы
и комплексы, имеющие — несмотря на все внешние различия —
некоторый общий знаменатель. (...) Приведем несколько
уточняющих приблизительных дефиниций того, что мы понимаем
(...) в данном исследовании под (...) «парадигмой».
Парадигма — это не миф, но система мифов, причем способная
генерировать новые мифологические сюжеты и рекомбинации.
Парадигма — это не теология, но система теологий, которые,
различаясь по своим конкретным аффирмациям, сводимы к
общей праматрице. Парадигма — это не мировоззрение, но
некая предмировоззренческая туманность, способная
выкристаллизовать из себя (как в системе Лапласа)
неопределенно большую систему мировоззрений. Парадигма не
идеология, но корневая подоплека идеологий, могущая
сблизить одни идеологии с другими, внешне не просто
различными, но противоположными, и наоборот, показать
фундаментальные различия в идеологиях, формально очень
схожих. В таком понимании нельзя провести строгой грани
между гносеологической и онтологической составляющими
парадигмы. Каждая из глобальных парадигм заведомо
закладывает аксиоматические структуры, где
предопределяются статусы бытия, сознания, духа, мира,
причины и их взаимосвязи. Эмпирические же подтверждения
или опровержения этих аксиоматических структур не касаются
их непосредственно, так как аффектируют лишь промежуточные
уровни конкретных формализаций. Вопрос о рефлексии
относительно самих парадигм и их качества ставится лишь в
особые исторические моменты, когда происходит переход от
одной парадигмы к другой. Но как только замена
осуществлена, сама возможность такой рефлексии
минимализируется. Парадигма предопределяет: как есть то,
что есть, и что есть, а также, то, как мы постигаем то,
что есть. Это замкнутый ансамбль. В одних парадигмах
онтология и гносеология заведомо слиты, в других
разведены. Но это не свойство уровня или степени познания,
это следствие парадигматического воздействия,
выливающегося в многообразные серии научных, философских,
мифологических и культурных дискурсов.» см А.Дугин
«Эволюция парадигмальных оснований науки», М.,2002. >>
{ 2 } См. приложение «Травматическая каббала
Исаака Лурии». >>
{ 3 } Там же. >>
{ 4 } Здесь следует обратить внимание на то,
что парадигма современности, основанная на тотальной
богооставленности (обозначенная нами как «парадигма
отрезка») проистекает из отсечения эсхатологической
перспективы возврата к истоку от полноценного религиозного
креационизма, обязательно включающего в себя эту
перспективу (»парадигма луча»). Подробно эта тема изложена
в кн.: А.Дугин «Эволюции парадигмальных оснований науки»,
М., 2002. >>
{ 5 } Сторонники традиционного ислама и
наиболее жесткие противники ваххабизма различают в
генеалогии этого реформаторского ислама как иудаистское
влияния, так и воздействие протестантизма, а также
некоторых версий восточной масонерии. С другой стороны,
метафизическая генеалогия восходит к раннеисламскому
течению хариджитов, которые откололись от войск Али и
убили его, но при этом не примкнули и к суннитам (так же,
как и хариджиты, современные исламские фундаменталисты
отрицают традиционные «мазхабы», не говоря уже о шиизме).
В основании этого лежит сакрально-географическое
представление о «проклятости» пустыни Наджд, расположенной
на Востоке аравийского полуострова, откуда происходили как
хариджиты, так и основатель ваххабитской реформации
Аль-Ваххаб. Некоторые толкователи считают, что пустыня
Наджд является землей, откуда явится даджал,
исламский «антихрист», который именуется также «рог
Наджда». В подтверждение этого приводятся хадисы, где
пророк Мухаммад трижды забывает произнести благословение
на этот регион, несмотря на просьбы его представителей,
подчеркнуто благословляя лишь Медину и Мекку. >>
{ 6 } Очень ясно эту идею разобрал С.Киркьегор
в работе «Страх и трепет», М., 1991. >>
{ 7 } Фридрих Ницше в своей важнейшей работе
«Генеалогия морали» эти аспекты совершенно упустил из
виду. >>
{ 8 } См. «Эволюция парадигмальных оснований
науки», указ. соч. >>
{ 9 } Актуальное в рамках потенциалистской
парадигмы мыслится как предел. Этот предел, тем не менее,
не имеет автономного бытия. Бытие предела есть функция от
стремления к пределу. Стремление обладает бытием, но лимит
этого стремления им не обладает. Это своего рода
конвенция, гипотеза, условность. Актуализм, напротив,
исходит из онтологии предела, а стремление к его
достижению рассматривается как апостериорно постулируемая
условность, т.е. снова гипотеза. >>
{ 10 } Там же. >>
{ 11 } См. «Русская Вещь», указ. соч., глава
«Тело как представление». >>
{ 12 } См. Н.Мелентьева «Социалисты
филадельфийского обряда», «Элементы», №8. 1998. >>