
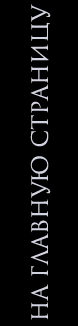




Александр Дугин
«Истоки великого зла»
Сегодня мы затронем новые уровни традиционализма.
Не берусь обещать, что они будут понятными. Но есть
герметическое правило понимать тёмное с помощью ещё более
тёмного. Существует предание, будто в изначальном чёрном
пространстве были написаны чёрным по чёрному важнейшие
письмена, которые никто не мог прочесть. И только тот, кто
смог погасить окружающий мрак, сделать его ещё более чёрным,
чем сами письмена, смог разобрать эту странную надпись,
которая содержала в себе секреты мира. Таким образом,
определённые элементы энигматики в лекции будут
присутствовать. Не удивляйтесь, если что-то будет совершенно
непонятно, это вполне нормально. Это даже хорошо.
Абсолютная идея европейского человечества
Известный немецкий философ Эдмунд Гуссерль однажды написал очень важную фразу. Я призываю с самого начала вдуматься в её смысл, поскольку дальнейшее изложение будет вращаться именно вокруг неё. Он сказал так: «Несёт ли европейское человечество в самом себе абсолютную идею, или оно — лишь эмпирически фиксируемый антропологический тип, подобный тому, какими являются жители Индии или Китая?»
На мой взгляд, в этой формуле — всё. Пожалуй, яснее и не скажешь. Многие авторы ставили аналогичные вопросы. Однако в устах Гуссерля, известного западного философа, принадлежащего к вполне политкорректной линии, он имеет особое звучание. Это не критика, не подвох, не сомнение, он не предполагает известного ответа (как большинство вопросов), это настоящий вопрос, чистый вопрос как он есть.
Первое, на что следует обратить внимание — это удивительное словосочетание: «европейское человечество». Представьте, что мы будем говорить об «азиатском человечестве». Это абсурд, нонсенс. Или о «евроазиатском человечестве», «африканском человечестве»... Совершенно понятно, что таких «человечеств» не существует. А «европейское человечество» присутствует не только в этой формуле, оно существует на самом деле. Или, по крайней мере, существует вполне конкретная часть человечества, которая претендует на то, что она есть всё человечество. И наоборот, то, что не является «европейским человечеством», согласно этой логике, в некотором смысле, является «недочеловечеством». Стоит вдуматься в эту, на первый взгляд, простую, почти банальную фразу, и мы увидим, что именно в ней, а не только в ужасах «Третьего Райха», содержится страшный заряд европейского расизма, культурного расизма. Европеец не только отождествляет себя с человечеством, но одновременно отказывает в этом качестве остальному человечеству.
Далее, вглядимся в суть вопроса: либо «европейское человечество» несёт в себе абсолютную идею, либо оно — лишь эмпирически фиксированный антропологический тип, подобный тому, какими являются жители Индии или Китая. Здесь, однако, снова интересная презумпция: жители Индии или Китая, по Гуссерлю, являются, оказывается, «эмпирически фиксированными антропологическими типами», что предполагает, что никакой идеи у жителей Индии или Китая нет и быть не может, тем более абсолютной. В свое время князь Николай Трубецкой, основатель евразийства, в своей книге «Европа и человечество» прямо противопоставил Европу и человечество, вскрыв «европоцентризм» как некое анормальное, агрессивное и очень опасное (для остального человечества) явление.
На поставленный Гуссерлем вопрос есть три варианта ответа.
Первый: да, «европейское человечество» несёт в себе абсолютную идею, и эта идея есть абсолютное и универсальное благо. При таком ответе миссия, которую осуществляет «европейское человечество», не ставится под сомнение, признаётся как факт, как неизбежность. Современная западная цивилизация рассматривается не как нечто географически и исторически определённое, а как нечто абсолютное, универсальное, архетипическое, как некий eidolon (эталон), с помощью которого оцениваются все остальные, не европейские общества. Этот ответ есть ответ самого «европейского человечества». Политкорректное, европоцентричное большинство в течение последних веков, начиная с Нового времени (хотя истоки этого следует искать намного ранее — в греческом и римском понимании «эйкумены» и «универсума») и до сегодняшнего дня, безусловно, отвечает на этот вопрос »да».
В свете такого ответа мы будем вынуждены рассмотреть ход эволюции «европейского человечества» как последовательный, поступательный процесс, призванный служить образцом для всех остальных. Таким образом, мы заведомо придаем истории вполне определенный ценностный характер. Не случайно именно историческое мышление столь характерно для европейцев. «Европейское человечество» видит само себя как развёртывание абсолютной идеи, как некий путь к опредёленной положительной цели, как поступательное развитие, при котором происходит отождествление истории мира с историей Европы.
Второй ответ на этот вопрос может быть отрицательным: «нет, не несёт». В таком случае мы имеем вариант, который предлагает сам Гуссерль: «европейское человечество» — это просто эмпирически фиксируемый исторически и географически антропологический тип. Это очень важное и чреватое многообразными смыслами и импликациями утверждение, поскольку, если мы понимаем «европейское человечество» с его достижениями и недостатками, с его моделями самосознания и универсалистскими притязаниями как нечто рядоположенное с другими цивилизациями, мы лишаем его самой главной претензии — претензии на абсолютность, на всеобщий, «общеобязательный» характер. Мы ставим его рядом с другими «человечествами», рассматриваем европейцев как одно из равнозначных, однопорядковых явлений наряду с китайцами, японцами, африканцами, русскими, эскимосами, арабами, индейцами и т.д. В такой ситуации здание европейской культуры мгновенно попадает в контекст, где его профиль перестает быть уникальным и «эталонным». Поступая так, мы поражаем в самое сердце европейскую идентичность, которая как раз и заключается в претензии на универсальность. Даже если такой позиции придерживается сам европеец, это взгляд внешний — взгляд азиатский, русский, из «Третьего мира», поскольку гипноз европейского универсализма в таком случае более не действует.
И наконец есть ещё один ответ, ещё более суровый, чем предыдущий. Он звучит так: «да, «европейское человечество» несёт в себе абсолютную идею, но эта абсолютная идея есть чистое зло, вектор вырождения, деградации и смерти». Кто может поставить такой диагноз? Мы знаем, что даже самые суровые европейские критики Запада — Шпенглер, Тойнби, Хайдеггер, Юнгер и т.д. ограничивались вторым ответом. Откуда же может исходить третий ответ, состоящий в признании за европейской цивилизацией «уникальной негативности»? В Европе нашлись и такие люди, они составляют движение традиционализма. Традиционалисты именно таким образом отвечают на вопрос Эдмунда Гуссерля. «Абсолютная идея «европейского человечества» есть идея абсолютного отрицания, абсолютного зла, европейская цивилизация не просто рядоположенная с другими типами цивилизаций, но она противостоит всем им, как неизлечимый недуг противостоит здоровью, а вырождение — взлету и процветанию.
В зависимости от выбора одного из вариантов ответа на поставленный вопрос можно легко представить ценностную шкалу отношений к тому, что является «злом», «добром», «историей», «развитием», «прогрессом», «нормой», «отклонением» и т.д. Данный вопрос относится к категории «парадигмальных», позволяющих определить самые глубинные и самые общие истоки широкого спектра оценок, взглядов, позиций, установок. Это очень полезная операция: в зависимости от выбора ответа, мы легко можем выстроить и предвосхитить структуру любого дискурса не только касательно Запада или, скажем, «нового мирового порядка», но и относительно самих себя, поскольку в значительной степени наш собственный язык пропитан и пронизан предпосылками языка современности, который является языком «европейского человечества». В той степени, в какой мы принадлежим современности, в той степени мы говорим на языке «европейского человечества», и даже на самих себя — русских, татар, угров, эвенков — мы смотрим глазами не собственными, а европейскими.
Оперируя с вариантами ответов на поставленные Гуссерлем вопросы, размышляя над ними, мы сможем достичь очень многого: мы развеем гипноз европоцентризма, выйдем из-под его императивного давления, сотрём впечатление его безальтернативности, а при желании сможем бросить в лицо жесткое обвинение — «да, Европа уникальна, но лишь в том, что она анормальна, патологична, смертельно больна и при этом контагиозна».
Между языком Традиции и «языком современности», как мы не раз говорили, существует полная антитетическая симметрия. То, что утверждается в «языке современности», опровергается в языке Традиции, и наоборот. Раз «европейское человечество» есть носитель языка современности, оно представляет собой и для традиционалистов и для «носителей духа современности», действительно, уникальное явление.
Обратите внимание на уязвимость второго ответа, несмотря на всю его «тактическую» привлекательность. На самом деле, неправомочно рассматривать «язык современности», выработанный европейским человечеством, как одну из разновидностей «языков Традиции», которые прямо или косвенно предопределяют парадигмы неевропейских цивилизаций. Такое уравнивание упускает из виду существенную антитетичность, которая определяет базовое соотношение этих языков.
Разработка, создание и усвоение «языка современности», действительно, является уникальным достоянием «европейского человечества». Давайте посмотрим, как исторически формировался этот язык современности. Он складывался в строго ограниченном пространстве — в Западной Европе. Его развитие проходило по логике вычищения, радикализации и абсолютизации той парадигмы, которая все более соответствовала структуре «современности» и все дальше уходила от структуры Традиции. Это — процесс «либерализации», освобождения «языка современности» от давления языка Традиции. Вычищение «языка современности», приведение его к абсолютной матрице, а далее — распространение его вовне является тем основным качественным процессом, который характеризует собой европейское человечество. Строительство современного мира и есть та самая абсолютная идея «европейского человечества». В той степени, в которой мы находимся под гипнозом этой идеи, мы принципиально не в состоянии поставить под вопрос этот парадигматический процесс. Коль скоро мы говорим на «языке современности», мы заведомо являемся пленниками концлагеря современности.
Но стоит нам отступить от этого языка, мы увидим совершенно иную картину. Мы увидим иной язык. И если мы с позиции языка Традиции попытаемся оценить «язык современности» и, соответственно, абсолютную идею «европейского человечества», то увидим в ней очень и очень тревожные черты.
Язык Традиции основан на утверждении однонаправленного процесса существования Вселенной. Этот процесс ориентирован строго определенным образом. — Он идет от рая к аду, от полноты к пустоте, от цельности к фрагментарности, от качества к количеству, от золотого века к железному, от блага ко злу. То, что традиция понимает под «злом», — это совсем не обязательно «зло» в современном узко моральном смысле, — находится впереди, а «благо» расположено сзади, в древности, в прошлом, in illo tempora. Соответственно, перспектива, которую очерчивает Традиция, представляя логику циклического развития, имеет вектор — от полноты к лишенности, ущербности, от целостности к фрагментарности. Язык современности (абсолютная идея «европейского человечества») как бы подхватывает это отношение и утверждает — «да, мы принимаем вызов, и выстраиваем модель, основанную на профанизации, десакрализации, фрагментации целого, на отбрасывании всех духовных и метафизических сторон, как ненужных и излишних, очищаем пространство от прошлого, освобождаем его для постоянно развивающегося, постоянно становящегося будущего».
В основе «языка современности» лежит богоборчество, отрицание Традиции, ее основных постулатов, ее проявленных и непроявленных парадигматических основ. «Язык современности» не просто параллелен секуляризации, он изначально сопряжен с желанием «подыграть» (но с обратным знаком) эсхатологическому, направленному в будущее видению, свойственному Традиции.
В каждой традиции есть представление о тех последних временах, которые наступят, когда изначальная полнота исчерпает себя, изначальная цельность будет расколота, изначальный порядок нарушится, а вертикальные смыслы сменятся горизонтальными. «Язык современности» начинается с провозглашения этих процессов в качестве позитивной программы. Творцы этого языка говорят: «да, мы разрушаем здание Традиции, да, мы идем в направлении исчерпания, раскалывания, нарушения прежней гармонии; да, мы изменяем систему ценностей, приближая ее к человеку прочь от неоправданного поклонения неведомым и недоказуемым высшим силам». И тут вспоминается библейский сюжет: «И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.»{1}
Создание «языка современности» проходило, происходит и кристаллизуется именно в таком же горячечном контексте, как затея строителей Вавилонской башни. Люди, которые выковывали и выковывают абсолютную идею «европейского человечества» (сегодня, впрочем, правильнее говорить не о «европейском», но об «американском человечестве», «европейское» было предыдущим этапом) очень спешат совершить резкую смену ценностей.
Еще совсем недавно для представителей традиционного человечества какой-то новый проект казался страшным, неприемлемым, но — раз... И все, включая тех, кто должен был бы защищать Традицию, предлагают рассмотреть его как относительно допустимое, нормальное, призывают быть «толерантнее», «уважать права меньшинств» или «идти навстречу технологическим нуждам»{2}
Эсхатологический традиционализм и неэсхатологический традиционализм
Если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Традиции, мы увидим, что современный мир и современный Запад (как авангард современного мира) есть, по сути, именно та инстанция, которую различные религии связывали с «абсолютным злом». Это справедливо для самых различных традиций, которые существенно различаются между собой, но в этом совпадают. Соглашаясь в этом вопросе, разные традиции самому понятию «зла» придают разное значение. В некоторых из них эсхатологическая проблематика, проблема конца времен и обнаружения высшего и абсолютного зла играет большую роль. Эти направления можно обозначить термином «эсхатологический традиционализм». Есть традиции, которые сфокусированы на проблеме зла и на его преодолении. Это отражено в развитых представлениях об этапах развития зла, его кристаллизации в процессе общей деградации мира, проявлении и воплощении зла в виде фигуры или образа, и, соответственно, в деятельном стремлении к его окончательному преодолению.
Эсхатологический традиционализм возможен в разных религиях и духовных учениях, не во всех он имеет одинаковое значение и объем. Есть версии традиционализма с минимальной эсхатологией. Такой неэсхатологический традиционализм не то чтобы отрицает концентрацию вселенского зла в конце цикла, но относится к этому факту спокойно, почти безразлично: это так, но это закономерно, и поэтому в этом нет ничего страшного... Добро и зло относительны. В какие-то периоды преобладает одно, в какие-то — другое. Это как времена года: «зима пришла, ноги задрожали, быть антихристу...» Здесь никто не отрицает дьявольскую природу дьявола или злую природу зла, но, тем не менее, ни паники, ни отчаяния, ни фундаментального подъема внутренних духовных сил не происходит.
Я хочу подчеркнуть, что два типа традиционализма в целом оценивают онтологическое и эсхатологическое качество абсолютной идеи «европейского человечества» одинаково и одинаково негативно. Но сам статус «негатива», «зла» в них существенно различается. «Язык современности» представляет собой патологию и аномалию с точки зрения любой традиции. Только одни традиции делают из этого драматические выводы, а другие спокойно, хотя и с неприязнью это констатируют.
Монолог головы Каурава (проблема зла в индуизме)
Сделаем теперь беглый обзор того, каким образом проблема эсхатологического зла рассматривается в главных исторических религиях и традициях.
Индуизм, особенно в адвайто-ведантистской редакции, относится к этой проблеме достаточно спокойно. Индуизм имеет подробно развитую концепцию циклов. Эти циклы являются днями и ночами Брахмы — высшего начала. Брахма (иногда Вишну) лежит на белом лотосе (или белом змее, Шеша); когда он открывает глаза — рождаются миры, циклы, когда закрывает — миры исчезают. Это похлопывание Брахмы глазами является истоком космического ритма, где создание и растворение чередуются. Умозрительное созерцание хлопающего глазами божества дарует индусским мудрецам совершенное спокойствие. С точки зрения абсолютной надвременной реальности, что открытые глаза, что закрытые — в целом, безразлично. Брахма всегда остается самим собой, независимо ни от чего. Дух мудреца отождествляется с Брахмой, и ему отныне также нет дела до моргающих циклов...
Рассмотрим тот период, когда глаза у Брахмы открыты. В этом промежутке творится и развивается реальный мир. Он делится на много внутренних подциклов, которые делят по определенной логике время открытых глаз. Весь цикл называется кальпа, он делится на 14 манвантар, каждая манвантара, в свою очередь, делится на 4 юги. Первая юга — сатья-юга, «золотой век». Потом — трета-юга, двапара-юга и кали-юга. Все развертывается по нисходящей. В сатья-юге живут счастливые божественные люди, живут долго и счастливо. Потом — существование уже «полурайское». В двапара-югу начинаются войны, наступает время героев. Наконец, наступает кали-юга, когда человечество вырождается окончательно до состояния автомато-скотов. Автомато-скоты копошатся на планете еще шесть тысяч четыреста восемьдесят лет, а потом им приходит конец. А затем следует новая манвантара, начинающаяся с новой сатья-юги, и так 14 раз подряд. После этого наступает конец кальпы и махапралайя, «великое растворение». Брахма закрывает глаза. Потом снова открывает. И снова «манвантары» и «юги». И нет этому конца, и не было начала...
С точки зрения индусов, мы живем в конце 7-ой «манвантары», причем в конце последней ее «юги» — «кали-юги», т.е. шесть тысяч четырехсот восемьдесятилетнего периода. В этот период происходит то, что индусы называют «схождение колеса «дхармы» со своей оси». «Колесо дхармы» представляет собой образ порядка, структуру распределения божественных, бытийных, онтологических энергий по всему пространству реальности. Когда колесо «дхармы» сходит со своей оси, возникают различного рода неадекватные явления. Например, Индию захватывают англичане и, естественно, ни о какой «дхарме» отныне речи быть не может. Вырождение прогрессирует, знакомство с англосаксонской культурой — шок для нормального, умственно полноценного индуса-традиционалиста. От этого пункта до конца «кали-юги» уже недалеко.
Таким образом, «язык современности», в индуистском контексте, рассматривается как феномен, иллюстрирующий, что происходит с человечеством в конце «кали-юги». «Абсолютная идея «европейского человечества» воспринимается ортодоксальным индуизмом как «эсхатологический синдром». Этот циклический момент имеет драматическую версию. Всякий раз, когда аналогичные безобразия происходят с человечеством на предыдущих отрезках цикла, неизменно появляется божественный посланник или «воплощенный бог» (аватара), который наводит порядок, отрубает демонам хвосты, разгуливает с топором, как Парашурама, все расставляет на места, наказывает виновных, проводит массивные чистки, и порядок на некоторое время восстанавливается вновь.
С точки зрения индуистской традиции, тот мир, в котором мы живем, является неизлечимым, поэтому частичного исправления, прихода «малого аватары» не предполагается. А так как надежды на частичное исправление нет, то индусы фаталистично ждут закономерного конца человечества.
В индуистской традиции есть персонаж, который должен положить конец «кали-юги». Но конец «кали-юги» будет на сей раз не исправлением человечества, а его концом, поскольку его цикл закончен. Это Калкин, десятый «аватара». Он заканчивает цикл «кали-юги» и открывает «сатья-югу» следующей «манвантары». То человечество, которое захвачено «кали-югой» в свои объятия, растворяется, исчезает, уничтожается, сжигается на ритуальном костре, и начинается новое человечество. «Кали-юга» в Пуранах фигурирует в виде богини. Калкин со своим войском сражается с войском «кали-юги» и побеждает его. Но все кончается вполне в духе индуистского холизма. Когда «аватара» Калкин на белом коне вступает в лагерь поверженной «кали-юги» (т.е. в нашу вселенную), чтобы покарать ее слуг и сообщников («носителей абсолютного идеи европейского человечества», по нашей реконструкции), когда его руки уже тянуться к шее черной богини Кали, по имени которой названа вся «юга», он обнаруживает, что это никто иная, как его собственная шакти, божественная супруга, женская ипостась. И бой переходит в брак, черная богиня обеляется, и рождается новое человечество.
Данный сюжет демонстрирует нам, что индуистское сознание категорически неспособно понять, что такое настоящее зло, настоящая трагедия. Здесь есть зло и трагедия, но это не более, чем игра — страшная, жестокая, но лишенная последней метафизической серьезности.
Показателен также сюжет из «Махабхараты» о кончине главного злодея из братьев Кауравов, которые совершали на протяжении всего внушительного эпоса бесконечное количество преступлений, подлостей, обманов, убийств, предательств, грехов. Они похитили у братьев Пандавов жену, рассорили между собой всех родственников правящей в Индии династии, развязали бойню на жертвенном поле Куру-кшетра, с которой отсчитывают начало «кали-юги». Они подкрадывались к спящим и убивали их, кусались, исподтишка стреляли, давили, то есть совершали массу отвратительных вещей. За ними гнались прекрасные, чистые, благородные Пандавы во главе с героем Арджуной. За счет своего благородства, честности и прямоты они постоянно упускали коварных Кауравов, позволяя им всякий раз уходить от ответственности. И вот когда наконец пойманному вождю Кауравов отрубают голову, следует классический для индуистской ментальности монолог отрубленной головы. Голова, отделившись от туловища, начинает произносить приблизительно такой текст: «Да, я творил зло, то, что я делал было чудовищно. Я все, что мог, украл, разбил, разрушил, кого мог — убил, где мог — соврал. Я затеял множество подлых и грязных интриг. Это правда, и я это признаю. Но, тем не менее, поступая так, я действовал в полном соответствии со своей кшатрийской, воинской природой. Я следую черному божеству Шиве и я прожил в полном соответствии с предназначенной мне судьбой, кармой, и своей кастовой природой. Сейчас я восхожу на небеса, где вечно пребывает мой дух. Всех, кто следил за моими приключениями, сердечно благодарю за внимание.» И даже в негодовании палачи вынуждены признать: «Действительно, ничего не попишешь, если все во всем, то зло служит добру, а добро провоцирует зло. Несправедливость одних компенсируется справедливостью других, негодяй предоставляет герою возможность проявить его лучшие качества.» И речь головы признается вполне разумной и достойной.
Индуистское сознание является парадигмой сознания сакрального, сознания людей Традиции. Здесь, в принципе, нет возможности помыслить что-то чисто отрицательное. Если и есть отрицательное, то это отрицательное очень относительно, и у этого отрицательного есть обратная сторона, которая рано или поздно обнаружится, чтобы обрушиться, низвергнуться в бездну положительного, а то, в свою очередь, будет вобрано в безразличную, бесстрастную реальность абсолюта.
Но и положительное, в индуистском смысле, весьма специфично. Положительным считается как безразличное созерцание «атмана» аскетом, преданность божественному началу у вишнуистских «бхакти-йогинов», так и шиваистские практики активного «разрушения всех преград» (лайя-йога). Шиваистские аскеты спят на кладбище, выкапывают трупы и поедают их, посыпают себе головы пеплом, нападают на мирных жителей, предаются распутству, ведут себя безобразно... Все это входит в элементы пути Шивы и считается также вполне позитивной духовной реализацией.
Вообще, сакральная этика индуизма является образцовой, с точки зрения холизма, для самой парадигмы Традиции.
Язык Традиции — язык сакральный. История из «Махабхараты» красочно иллюстрирует одну из основных характеристик сакрального. В мире нет ничего, что не было бы в той или иной степени сакральным. Зло так же сакрально, как и добро, а преступление — как святость. Индусы безошибочно распознают сакральное в курином помете или сгнившей древесной коре, в мутной воде сточного потока и в малярийном парном ливне, не кончающемся месяцами... Они видят, человеческую, не человеческую, животную, природную реальность как насыщенную лучами божества, которое есть повсюду и во всем. Вскрыть их не составляет для индуса большого труда. Куда бы индус ни ткнул пальцем, сакральное тут как тут.
Это образец холистского, целостного подхода, где все связано со всем, и чисто отрицательные категории просто отсутствуют. Пример, с кали-югой, на мой взгляд, очень показателен в этом смысле. Даже если индусы сокрушаются, что «колесо «дхармы» сошло со своей оси», они в глубине души уверены, что это не так уж и страшно, и что все будет (уже есть на каком-то уровне) в порядке. Если это колесо слетело, значит и это зачем-то нужно.
В буддизме, другой религии индуистского (по происхождению) ареала, проблема зла ставится иначе. Здесь «зло», отождествляемое со «страданием» (дукха), имеет намного более серьезное значение. Здесь мы уже отходим от «спокойного» всеобъемлющего холизма, свойственного индуизму, и делаем шаг в сторону более привычной для нас этики. История и доктрина буддизма, начала буддистской сотериологии и этики, синтезированные в учении о «восьмеричном пути», начинается с того, что юный царевич Гаутама (Будда) сталкивается с проявлением зла, страдания, от которого его до поры до времени искусственно оберегал отец. Когда Гаутама сталкивается с нищетой, болью, смертью — т.е. со злом — он понимает, что мир сам по себе есть одно сплошное страдание. Размышляя над этим под деревом Боддхи, Будда получает откровение (просветление). Ему становится понятным, что этот мир как страдание (сансара) является фантасмагорией и состоит из «сгущенной пустоты» (шуньята). Все его существа и вещи — человеческое «я», цветы, стихии, пейзажи, боги и животные — не что иное как «маски пустоты». Как только «пустотная» природа мира была вскрыта и осознана Буддой, он достиг состояния высшей безмятежности — нирваны. Он не только спас самого себя из «колеса сансары», из «мира страдания», но и передал тайны пути, по которому следовал, своим ученикам, а те, в свою очередь, своим. Так учение о «восьмеричном пути» распространилось по Индии, а потом и по всей Азии.
Мы видим, что в буддизме «злу» — как «страданию» и, в конечном счете, как вредной «иллюзии» — уделено гораздо больше внимания, чем в индуизме. Для индусов под тонкой оболочкой внешнего мира свободно дышат миры внутренние, уводящие — мембрана за мембраной — к области высших принципов — вплоть до абсолюта. Спасительным для индуистов представляется не разоблачение пустоты, лежащей под оболочкой вещей и существ, но сам процесс движения от внешнего к внутреннему. В буддизме (особенно в Хинаяне, «малой колеснице») отношение между внешним (сансарой) и высшим благом (нирваной) является драматическим. Внешнее противостоит благу, является его антитезой. Поэтому в буддизме концепция «зла» имеет столь большое значение, антитетичность здесь концептуализирована. Для индуистов дело обстоит иначе. Между внутренним и высшим благом существует прямая связь, но не горизонтальная, а вертикальная. По мере углубления в центр своего существа человек, дух, зверь, камень или растение двигаются по прямому пути «спасения» и «богореализации».
Буддисты видят реальность гораздо более «ревизионистски». Они говорят: «Вот перед нами предмет, например, стул. Но, на самом деле, это не стул, это лишь сгущенная пустота в виде стула. У стула отсутствует метафизическая «стульность», вместе нее — корпорифицированный вакуум, который скрывает сам себя, источая гипнотические лучи иллюзии, заставляя верить наши чувства, что перед нами нечто, что есть и есть именно то, чем кажется, т.е. самый настоящий стул, хотя на самом деле это онтический фокус, случайное сплетение пустотных по сути стихий.» Вхождение в контакт с этим «стулом» отнюдь не безобидно доверясь его присутствию, мы усугубляем иллюзию и погружаемся в сферу страданий. Любой предмет, любая ситуация, любое чувство, любая мысль коварно уводят нас от главного, считают буддисты, от поиска безмятежной «нирваны».
Какое лечение от этой окружающей нас «сгущенной пустоты» предлагают буддисты? Они предлагают ее разоблачить, опрокинуть саму в себя, растворить ее в ней самой, чтобы вместо вещей, существ, мыслей и состояний увидеть соответствующие им «пустоты». Как гласит важнейшая буддистская формула: «сущность «сансары» — «шуньята», сущность «нирваны» — тоже «шуньята». Это важнейший метафизический, гносеологический и сотериологический одновременно парадокс буддизма: если понять, что пустота, которая выдает себя за «непустоту», есть, на самом деле, только пустота и больше ничего, ты освободишься от всех границ, так как все границы не более, чем пустоты, наступит абсолютная свобода, ты «погасишь» самого себя и мир вместе с собой, тебя больше не будет и ничего и никого не будет тоже; это называется «нирвана», высшее состояние просветления, состояние Будды, высшее благо.
В качестве главного зла выступает, таким образом, сама гипнотическая структура «сансары». Это уже не просто «внешнее» обличье, под которым таится «внутренняя» сущность, это «преднамеренное зловредное действо по сокрытию истины, добра и спасения». Возникает пока еще довольно смутный и расплывчатый, но уже вполне определенный образ зла. Буддизм не говорит о персонализации этого зла, о персональной ответственности за него, за порождение самой этой сгущенной пустоты. Но ясный моральный дуализм присутствует со всей определенностью.
В буддизме есть учение и о циклах. Считается, что Будда нашего цикла, Будда Гаутама, который дал путь к просветлению на этом этапе, постепенно забудется, а потом придет новый Будда, Майтрейя, и даст новую версию учения о «восьмеричном пути», по сути совпадающую со старой, но адаптированную к новым циклическим условиям. Здесь также речь идет о циклической деградации, но она относится не к общему состоянию мира, который и сам по себе есть «сансара», а к истории буддистской общины, сангхи. Эта община деградирует, вырождается, пока не придет новый Будда Майтрейя. Майтрейя изображается традиционно как толстобрюхий мужчина, потому что в Традиции считается, что полнота — это символ целостности и совершенства. Первые люди, по Платону, также были круглые, как шары, невозможно было увидеть ни головы, ни рук, ни ног.
Однако, миссия Майтрейи состоит не в изменении качества мира (как у «сотеров» других традиций), а в реактуализации учения о спасении из цепких лап «сансары».
В китайской традиции, по Генону, есть внешняя и внутренняя стороны — конфуцианство и даосизм (исторически довольно тесно сливавшийся на определенных этапах с принесенным из Индии, но существенно переработанном в китайском ключе буддизмом).
Китайцам мир представляется динамическим балансом двух фундаментальных сил — ян и инь. Однако идентичность этих сил никогда не является абсолютной и статической. Они переплетены друг с другом, и в самой глубине своей несут элементы природы противоположного начала. Знаменитый китайский символ инь-ян иллюстрирует это наглядно. В центре черной рыбы (инь, женское начало) есть белый центр, глаз (ян, мужское начало), и наоборот, в центре белой рыбы (ян) есть черная точка (инь). Поэтому ни в чем нельзя быть уверенным наверняка... Игра великих сил направляется Дао, непознаваемым началом, динамичным имманентным и трансцендентным одновременно абсолютом, «непознаваемым путем непознаваемого», великой неопределенности, двигающейся по неопределенным путям, в неопределенных пространствах, составляющихся и распадающихся в причудливом узоре бытия. Игра этих сложных, многомерных сил, их напряжения и разломы, схватки и слияния составляют полноту китайской картины мира.
Для «зла» в такой картине нет места. Это предельно холистский взгляд. В конфуцианстве представление о зле сводится к нарушению устоев, традиций, обычаев, ритуалов, этикета, наставлений древних, приказов начальников, т.е. к беспорядку. Причина «зла» не осмысляется.
У даосов видение реальности носит более игровой, парадоксальный характер. Великое и серьезное пронизывает реальность в причудливых траекториях, открываясь в тростнике и бабочке, в летнем дожде и веселом застольном тосте, в зрачке разбойника и башмачке лисы, превратившейся в соблазнительную вдовицу, в мизинце покойника и вырезанной из бумаги фигурке...
Зароастрийский дуализм: рождение абсолютного зла
Все самое интересное с точки зрения истоков великого зла начинается в зароастризме, представляющем собой развитие более древней иранской традиции маздеизма. Тут мы впервые сталкиваемся с очень серьезными темами из области «онтологии зла». В основе зароастризма лежит концепция о том, что зло является онтологичным, сакральным, что у зла есть собственная фундаментальная, божественная причина. Зло обретает здесь метафизическое значение и самостоятельную субстанцию, которая играет ключевую роль в судьбе человечества, в судьбе религии, в судьбе мира.
Эту традицию обычно называют «дуалистической», нас же интересует в ней то, что зло здесь играет самостоятельную онтологическую роль.
Согласно маздеизму, в начале мира, по логике вещей, должен был появиться светлый бог — Ормузд, Ахура-Мазда. Но он как-то замешкался в утробе великой ночи, и первым появился его темный брат, Ангро-манью, Ахриман, «злая мысль». Создать Ангро-манью ничего не мог, он был черным на черном фоне. Но тем не менее, ощущение изначальности (примордиальности) у него осталось{3}.Наконец, Ахура-мазда тоже появился и создал прекрасный духовный мир менок, мир архетипов, и менее прекрасный, но тоже неплохой мир гетик, который был вещественным слепком с мира архетипов. Эти творения и населяющие их существа и вещи косубстанциальны, единосущны Ахура-мазде. Все было приблизительно так, как у индусов — между миром и его причиной была прямая связь, и различные онтологические уровни различались лишь своим градусом, но не структурой реальности.
Но где-то на границе, где-то сбоку зловеще притаился тот товарищ, который вынырнул первым. Когда он увидел, что Ахура-мазда все закончил, все совершил, что все было очень хорошо, очень красиво, все блистало, то немедленно вступил в дело. Видимо, он только этого и ждал, и он набросился на этот светлый мир и стал его портить. Ахура-мазда стал защищать то, что создал и что было его частью, и в самые глубокие световые архетипы (менок) тьма злой мысли проникнуть не смогла. Тогда Ангро-манью подумал и зашел с другой стороны — со стороны мира гетик, где светлые небесные архетипы приобретали более плотный и вещественный характер. Ангро-манью стал постепенно разъедать этот мир, подтачивать его основы, примешивать свое темное начало к существам, его населяющим, к окружающим предметам, к самой его стихии. Так зло проникло в мир. И зло изменило структуру его онтологии.
Зароастрийцы видят в истории мира три этапа. Первый: Бундахишн — творение. Это история создания Ахура-маздой светлого мира. Вторая стадия Гумизишн, смешение. Этот этап есть процесс отравления мира Ангро-Манью, его атаки на мир. Третий этап: финальная победа Ахура-мазды, Вичаришн, разделение. С точки зрения зароастрийцев, мы живем в конце эпохи Гумизишн, когда Ангро-Манью, «злая мысль», — читай «абсолютная идея европейского человечества», точнее, «англосаксонская цивилизация, еще точнее, США, — захватила максимальное количество пластов реальности в свое ведение, примешав к каждой вещи и к каждому существу изрядную долю разъедающей тьмы, что привело к максимально возможному в мире гетик смешению.
Во всей этой космогонической и циклической доктрине зло обретает важнейшее онтологическое значение, функцию самостоятельного начала. Отсюда возникает драма истории. Отныне активная борьба с темным началом ложится в основу религиозной этики, религиозной практики, религиозного ритуала. Конечно, и в индуизме говорилось о битвах богов, героев и царей с чудовищами, монстрами, созданиями мрака. Индра, к примеру, убил дракона Вритру. Но это были жизнеобразующие, жизнеутверждающие битвы. Из сердец и языков поверженных драконов и демонов делались важные сакральные предметы, все употреблялось для полезных душеспасительных целей.
В зараостризме же мы подходим к первой стадии вынесения одного из секторов онтологии — темного сектора — в особую этическую категорию, которая лишена перспективы последнего метафизического искупления. Один сектор бытия сугубо сакрализуется — свет, огонь, солнце, верхняя половина туловища, определенные животные, травы, народы и расы, культуры и т.д. Другой, напротив, десакрализуется — сырость, ночь, нижняя половина туловища, другие животные, птицы, травы, народы, расы и культуры. Все раздваивается. Важна функция характерного для зароастрийцев ритуального пояса — кусти. Он завязывается в четыре узла (4 стихии) и отмечает собой грань, где кончаются пределы Ахура-мазды и начинаются пространства Ангро-Манью в человеческом теле. Также к темным птицам относились совы, которых на лету ловили и уничтожали зароастрийские маги. Иранцы считали самих себя «детьми Ахура-Мазды», а остальные народы и, в первую очередь, аборигенов Турана, — скифов, славян, тюрков, угров, которые носились в то время по просторам Евразии, — они относили к «детям тьмы», к порождениям Ангро-Манью. Здесь следует искать истоки «метафизического расизма»: иранцы мыслились сотканными из света, а туранские народы — из тьмы.
Так как усилие по преодолению зла, по борьбе со злом есть путь к спасению и бытию, то зло вступает в интимное соучастие в метафизических аспектах бытия. На борьбу со злом направлена вся внутренняя сердечная и духовная энергия зароастрийской традиции, и, соответственно, упадок этой традиции и возвышение детей тьмы рассматривается именно как победа Ангро-Манью. При этом считается, что вся история циклов, с временной победой злой мысли над миром гетик, нужна для чего-то очень важного. У всего мирового процесса есть строгая цель, и зло, включая момент его преодоления, играет в изначальном сценарии огромную метафизическую роль.
Венцом зароастрийской циклологии является «конец времен» и «воскресение мертвых». В озере Завета (отождествляемом иногда с озером Ван) должен родиться «последний Заратустра». Его родит дева, не знавшая мужа и искупавшаяся в озере, где с древних времен хранилось «семя света». «Последний Заратустра» начнет «эпоху разделения», Вичаришн. В эту эпоху все встанет на свои места — дети света обнаружат свое величие, а дети тьмы будут окончательно посрамлены. Людей и других существ, которые были увлечены мантией Ангро-манью, темным ветром, проникающим в природу тел и вещей, поставят перед онтологическим зеркалом, перед жестким пылающим клинком света. И разберутся по всей строгости, поскольку возможность выбора ставит проблему личной онтологической ответственности за судьбы мира, за судьбы света и тьмы.
В зароастризме холизм видоизменяется. Он еще не отрицается полностью (как в креационистских традициях), но автономность «темного полюса», выделение его онтологии в самостоятельную метафизическую категорию, придает всему комплексу характер, отличный как от индуизма и даосизма, так и от буддизма. Ангро-Манью не «иллюзия», и не «завуалированный» свет, играющий в тьму. Это настоящий «черный бог», самобытное сгущение мрака.
У этой теневой сакральности Ангро-Манью — очень глубокие корни, поэтому и говорится, что он появился первым{4}. Зароастрийцы не могут просто так отмахнуться от бытия Ангро-Манью, мол, его в конечном счете, нет. Он очень даже есть. И «есть» самым серьезным образом, с фундаментальными корнями, уходящими в метафизику. Но эти корни странны и страшны. Здесь возникает концепция зла как метафизической категории, зла как особой онтологии, зла как теневой, темной сакральности. Это совершенно новый подход, с которым мы не встречались ни в буддизме, ни в индуизме, ни в даосизме, ни в других пантеистических традициях. Показательно, что у зароастрийцев и индуистов боги и демоны назывались симметрично противоположными именами. «Дэвы» у индуистов-это боги, а у зароастрийцев — демоны, и наоборот, «ахуры» у зарастрийцев — боги, а «асуры» у индуистов — демоны, хотя, конечно, к своим демонам индуисты относятся гораздо спокойнее и терпимее, чем зароастрийцы к своим. В этом случае, в двух ветвях духовной традиции единого происхождения мы имеем, два принципиально разных отношения ко злу — одно холистское, довольно терпимое в индуизме, и противоположное, дуалистическое, непримиримое в зароастризме.
В греческой традиции доминировал холистский подход, и тема зла не имела самостоятельного онтологического значения. У греков была своя теория циклов, запечатленная, в частности, в «Трудах и днях» Гесиода. У этой теории много общего с индуизмом. Также речь идет о четырех веках — золотом, серебряном, бронзовом и железном. Между веками утверждалась классическая для Традиции иерархия, основанная на представлении о неминуемой деградации качества бытия в ходе развертывания циклических процессов. В этой циклической модели зло как ухудшение качества бытия присутствовало, но автономного значения не имело. Гераклит учил о циклах огня, когда pyr-pater, отец-Огонь, не в силах выносить безобразия вырожденцев, сжигал периодически человечество и сам из себя порождал новых людей.
Самое серьезное приближение к метафизике великого зла мы встречаем в традиции иудаизма. Эта традиция уникальна во всех отношениях. Она являет собой новую грань в истории духа. Она подразумевает революционное вторжение новых метафизических предпосылок, совершенно чуждых нормативам холизма{5}. Именно поэтому говорят об «уникальности монотеизма», «уникальности религии Откровения», что связано исторически и метафизически с иудаизмом. Большинство сюжетов, тем, символов, ритуалов, обрядов, которые мы встречаем в иудаистской традиции, наличествуют и в других традициях, мы можем отыскать множество их прямых аналогов. Но то, чего нет ни в одной из них, — это особая иудейская креационистская метафизика. Вот она-то и является уникальной для всего спектра вариантов в истории религии.
Специфика иудаизма состоит в том, что он впервые постулирует непреодолимую бездну между миром и божеством. Этого до евреев и вне евреев не знал (и не знает) никто. Бездну знали, но непреодолимую бездну нет.
Мир в такой перспективе дезонтологизируется. Бытие приписывается только одному Богу. Всему остальному, то есть творениям, достается не самобытие, а бытие, взятое напрокат, чуждое, чужое постороннее. Все сотворенное мыслится механически, как нечто принципиально неживое, как неонтологическая сама в себе реальность. Такая реальность, оживленная началом внешним по отношению к ней, имеет только «скорлупное» существование, но не имеет сущности.
Так возникает оригинальная концепция «творения из ничто», ex nihilo, о которой во второй книге Маккавеев, мать говорит своим детям — «посмотрите на небо, на эти горы, на эту землю, все это Бог создал из ничто». Это фундаментальный момент, на котором основана иудаистская метафизика, этика, гносеология, онтология, сотериология.
Что это значит? Это значит, что впервые радикально мы выходим за рамки холизма, за рамки единой онтологии, связывающей между собой разные сегменты многомерного мира — как недвойственного (в индуизме), так и двойственного (в зороастризме). Вспомним, что даже Ангро-Манью был рожден изначальной, примордиальной тьмой, которая является первопринципом и принадлежит глубинам метафизики (самостоятельный статус эта инстанция получила в поздней иранской «религии магов» — т.н. «зерванизме»). В иудаизме имманентный мир нагружен совершенно иным значением. Он не имеет более прямых онтологических корней. Он вырос из ничто, он призван к бытию из ничто. Эта «призванность к бытию из ничто» ставит этот мир в уникальное положение. Мир впервые становится локальным и свободным — свободным от той «золотой нити», которая связывала бы его с Божеством напрямую. Он свободен от собственного духовного «я». Он не то, чтобы иллюзорен (может быть, он и не иллюзорен), самое главное — он не обладает внутренним бытием. Если мы возведем его генеалогическую траекторию к области имманентных причин, мы не получим никакой онтологической реальности. Мы столкнемся с уникальной непреодолимой гранью, за которой ничего нет.
Из такой метафизики выводится совершенно новое представление о добре и зле. По этой причине иудаизм часто называют «моральной религией», т.е. религией, придавшей морали новое, исключительное значение. Иудаизм сделал в сторону, намеченную дуалистической онтологией зароастризма, радикальный шаг. Добра и зла как онтологических категорий в креационизме нет, потому что все то, что тварно (и темные стороны — демоны, «гои», и светлые стороны — ангелы и сами евреи, избранный народ), сущностно ничтожно, поскольку по природе своей не связано с онтологией божественного.
Тем не менее моральный выбор есть, и он наделен невероятным весом. Сущностно отчужденное от Творца творение имеет две возможности: либо сказать — «да, я буду как Бог», это выбор Михаэля, благого архангела, либо «я не буду как Бог, я буду бог» — это выбор Гекатриэля («ангела Короны»). Добро и зло появляется в данном случае не из бытия, не из онтологических корней, а из свободного выбора свободный тварей.
Это очень важный момент, поскольку свободный выбор, т.е. «волюнтаризм», «решение», «действие» вместо холистской онтологии порождают иную — креационистскую онтологию, основанную не на всеобщем единстве и онтологической очевидности, но на произволе. Онтология креационизма, онтология мира и человека в иудаистском, креационистском контексте, в контексте религии Откровения постулируются через свободный выбор твари — не только человека, но и других существ (вспомним, что вся история началась с падения Денницы, то есть прежде чем коснуться человека, тот же выбор возник перед ангелами: часть сделала один выбор, часть — другой). Структура этого выбора очень сложна, он проистекает не из внутренней природы тварных существ, поскольку все они в последнем счете одинаково ничтожны, но из волюнтаристского постулирования. Это совершенно новый подход ко злу. Зло является здесь не иллюзорным и не онтологическим, но рукотворным, «тварным», проистекает из применения той уникальной свободы, которую креационизм предоставляет существам, настолько радикально не божественным по природе, что их свобода по тотальности оказывается рядоположенной со свободой самого Божества. Конечно, можно задать вопрос: а не является ли сама свобода предпосылкой зла. Раз выбор зла возможен, то он обязательно рано или поздно будет кем-то сделан, как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит, будучи повешенным на стену.
Если вы даете возможность человеку свободно сделать любое из двух действий (и не даете возможности сделать третье), то он обязательно рано или поздно попробует оба. В противном случае это будет уже не свобода. Библейская история, со вкушением запретного яблока познания, была парадигмальным тестированием креационистской онтологии свободы. Если соблюдение запретов и разрешений есть функция от произволения, то само это предполагает перспективу творения зла — не просто злых поступков, но волевое сотворение зла как бытийного полюса.
Когда мы даем человеку свободу, мы уже тем самым косвенно подталкиваем его к опробованию всех возможностей, в ней заложенных, даже если делегирование этой свободы сопряжено с рядом пожеланий, наставлений и инструкций по ее дальнейшему использованию. Даже с психологической точки зрения, это очевидно. Представьте себе, что мы говорим человеку: «ты свободен делать, что хочешь, но вот этого лучше не делай». Это все равно, что подтолкнуть его к тому, чтобы он все же попробовал это сделать. Рано или поздно человек задастся вопросом: «Что-то в этой ситуации концы с концами не сходятся... Либо одно, либо другое. Либо я по-настоящему свободен, и в таком случае, я смогу доказать это именно тем, что осуществлю то, что не рекомендовано, либо я не свободен, так как пребывание в заданных рамках дозволенного и есть прямое проявление моей несвободы...»
Выясняется, таким образом, что в самой этической основе иудаистской креационистской этики, содержится, хотя и косвенное, но довольно настойчивое, побуждение человека к творению зла. Косвенность этого побуждения в чем-то намного опаснее прямого диктата, прямого принуждения ко злу. Когда говорят, что ты полностью свободен делать все, так как ты — ничто, захочется все попробовать. И ведь попробовали...
Классическая иудаистская теология говорит, что все существа, независимо от своей свободы, должны использовать ее соответствующим образом и усладить Господа. Но коль скоро «должны были», «должны», то значит «несвободны». Здесь есть фундаментальное противоречие. Как бы то ни было, если свобода и не является злом, то, по меньшей мере, является явной предпосылкой ко злу. И, соответственно, в тех теологических предпосылках, которые перешли из иудаизма в христианство, проблема морального выбора несет в себе всю эту двусмысленность «парадокса свободы». Особенно это касается западного христианства (католицизма и протестантизма), которые по многим вопросам можно отнести к разряду «иудео-христианства», в то время как восточно-христианская (в первую очередь, православная) мысль развивалась в ином направлении{6}.
Еще раз обратим внимание на то, каково качество мира в креацинистской иудаистской метафизике. Мы впервые, в сравнении с холистскими моделями и даже с дуализмом зароастрийцев, видим мир, который не сакрален сам по себе, но который может выбрать либо относительную сакрализацию в благом направлении, либо столь же относительную сакрализацию в направлении зла. Если этот свободный, но несакральный по сути своей мир выбирает путь сакрализации, он стремится к тем пропорциям, которые мы выделили в холистских ансамблях традиций манифестационистского толка. Если он остается в нетронутом, нейтральном состоянии, он остается внесакральным, так как сам субстрат этого мира, созданного из ничто, заведомо несакрален, поскольку сакральность в самом широком понимании есть следствие прямой и неопосредованной связи мира со сферой онтологических причин. Креационистски понятая свобода твари и есть синоним несакральности.
Важно, что предпосылка для последующей выработки «языка современности», для последовательного и концептуального оформления процесса десакрализации, для обезвоживания духовного измерения мира, человеческих отношений, истории дана в иудаистском, креационистском подходе. В полноценной креационистской теологии отказ от сакральности расценивается отрицательно, и поэтому нельзя обвинить иудаизм в десакрализации напрямую. Точнее сказать, что он создал предпосылку десакрализации, так как именно десакрализованным (ничтожным) оказалось изначальное качество сотворенной реальности. Оно-то и создало предпосылки свободы, влекущей за собой как вторичное следствие возможность сакрализации в обоих направлениях — благом и злом.
Во всех остальных традициях добро и зло обязательно имеют онтологические сакральные корни. В иудаизме добро и зло — следствия произвола, их сакрализация рукотворна, в чем-то искусственна. Это не полноценная сакральность, но скорее, намерение, стремление к сакральности, никогда не достигающие искомого предела.
Иудаизм в своей метафизической установке подспудно подготовляет ту реальность, которая позже отольется в «абсолютную идею европейского человечества».
В исторической реальности иудейская традиция содержала множество иных аспектов. Эзотерическое измерение иудаизма — каббала — эксплицитно утверждало иную метафизику. Традиция каббалы утверждает, что мир был создан из божества, ex Deo, был излит из преизобилия божественного присутствия. Добро и зло здесь коренятся в Божестве, представляя его «правую» и «левую» стороны. Каббалисты прямо говорят: «в Боге есть источник зла, это северные врата Божества, гласный патах, гласный а; оттуда в мир приходит тьма». Каббалисты в своих доктринах утверждают, что в иерархии миров есть один мир, — мир ближних, Ацилут, — который напрямую сопряжен с Божеством, проистекает из Божества по логике манифестации, как в других некреационистских доктринах, и есть три мира, которые выстроены в согласии с креационистской логикой — собственно, мир творения, Брия, мир формации, Йецира, и мир активации, Ассия.
Онтология каббалы с миром Ацилут существенно видоизменяет креационизм, делает его относительным. Некоторые каббалисты — как балансирующие на грани иудейской ортодоксии (вроде Исаака Лурии), так и находящиеся за ее пределом (как Саббатаи Цеви и его последователи: Натан из Газы, Барухиа Руссо и Яков Лейб Франк) ясно осознавали зазор между манифестационизмом (миром Ацилут) и креационизмом (миром Брия и двумя другими мирами) вплоть до их противопоставления. Гетеродоксальная каббала подчас приводила к антиномизму — т.е. к призыву к еврейским мистикам нарушать креационистские запреты, чтобы стяжать манифестационистскую благодать.
Теперь рассмотрим христианское представление о зле.
Здесь все очень сложно, поскольку само представление о
христианстве у нас крайне запутанное. К сожалению, мы привыкли
рассматривать его в перспективе, фундаментально затронутой
языком «современного мира». Как это ни парадоксально, но мы
очень слабо представляем себе, что такое христианство. Сам
термин «христианство» несет в себе определенную
двусмысленность. В русском языке более правомерно употреблять
выражения «православие», «вера», «церковь», «наша вера»,
«отеческая вера» и т.д.. Слово «христианство» —
новообразование, европейская калька. Поэтому следует точно
выяснить, что собственно мы подразумеваем под «христианством».
Здесь возможны, по меньшей мере, два варианта: восточное
христианство (преимущественно, Православие, но также
монофизитство, яковиты и т.д.) и западное христианство
(католицизм, позже протестантизм). О псевдохристианских сектах
мы вообще не говорим.
Что касается западной версии
христианства, то она преимущественно наследует
креационистский, монотеистический, моралистический подход,
свойственный иудаизму, но приспособленный к христианской
догматике. В отдельных случаях здесь иудео-креационистская
линия не только продолжается, но еще более радикализируется.
Концепция творения ex nihilo развивается еще
отчетливей, нежели в рамках самого иудаизма. Это не случайно.
В основании христианской догматики, сформулированной в общих
чертах в посланиях святого апостола Павла и закрепленной в
семи Вселенских соборах, лежит пронзительное осознание
ограниченности ветхозаветной метафизики, абсолютизирующей
отношения творец-творение, и преодолеваемой в метафизических,
онтологических и сотериологических импликациях Благой Вести{7}. Таким образом, сама основа креационистской
метафизики оказывается в центре христианского внимания с еще
большей отчетливостью, нежели у иудейских теологов. Но
специфика христианской догматики такова, что чисто
теоретически в ней можно акцентировать как преемственность
креационистской линии, так и освобождающую благодатную
онтологию, проистекающую из Боговоплощения и всего
мистериального сотериологического цикла. На уровне догмата
эксплицитных указаний нет, и традиции интерпретации зависят от
множества цивилизационных, исторических, культурных и даже
геополитических факторов. Западное христианство развивало
«иудео-христианскую» линию с акцентом на креационистскую
метафизику. Восточное христианство можно условно назвать
«эллино-христианством», так как в центре его внимания была
именно благодатная, новозаветная, церковная онтология,
спроецированная в значительной степени на все
социально-политическое пространство «православного царства»,
«империи»{8}.
Учитывая эту закономерность, следует отдельно рассматривать проблему зла в западном христианстве, отдельно в восточном. В обоих случаях общие для этих ветвей евангельские или святоотеческие истины получают довольно различное толкование. В принципе, несмотря на схожесть в словоупотреблении и определенных грамматических и лексических конструкциях, язык православия и язык западного христианства — это два разных языка, так как даже самые сходные выражения и конструкции в обоих случаях понимаются по-разному.
Зло в католицизме — категория моральная, «рукотворная», основанная на произволе. Здесь тема «свободы твари» не просто наследуется из иудаистского контекста, но и получает последовательное и масштабное развитие. С другой стороны, католическое толкование учения блаженного Августина о «двух градах» приводит почти к дуалистическому представлению о неизлечимой греховности («злостности») низшего мира, «града земного». Церковь (небо, благо) противопоставляется миру (земле, злу). Просто «быть» означает «быть во зле», а хотеть «просто быть» — значит «усугублять зло». Благо достигается через переориентацию воли — от града земного к граду небесному. К этому католическому взгляду в целом применимо все то, что мы говорили выше о «креационистской» онтологии зла.
В Православии проблематика зла ставится несколько иначе. Во-первых, можно привести характерное для православных представление о зле как об «умалении добра». В основе такого отношения лежит созерцательная линия восточных отцов-каппадокийцев. Эту формулу мы встречаем в частности, у святого Григория Нисского — «зло есть умаление добра». В этом «православном платонизме» добро как световой стрежень мира онтологизируется, а зло дезонтологизируется. Эту позицию можно сблизить с индуистским подходом. У зла нет самостоятельного бытия и, соответственно, нет истока. Это просто погрешность, самосокрытие добра. Еще раньше, хотя и в еретическом обличье, этот метафизический подход получает радикальное выражение у Оригена, выдвигавшего идею о конечном «спасении сатаны», всех грешников — людей и демонов — в эсхатологическом таинстве «восстановления», «апокатастасиса», «реинтеграции». Православные отвергли эту формулу в ее эксплицитной версии, но, в целом, для созерцателей и богословов Восточной Церкви «релятивизация» зла весьма характерна.
Эсхатология является важнейшим элементом христианского вероучения, и в этом вопросе расхождения с иудаизмом самые существенные. «Ветхий Завет» для христиан является «сеннописанием» (по выражению православного канона). Это повествование об истине с помощью теней. Здесь можно усмотреть параллель с образом пещеры Платона. Метафизика Нового Завета оперирует с обнаруженной как дар онтологией Божества, и все, что попадает в область Церкви, воссоединяется с Божеством — только не по природе (как в манифестационистских теориях), но по благодати. В православной метафизике по природе тварь отделена от Творца креационистскими пропорциями, но по благодати ограничительные стороны этого соотношения преодолеваются.
«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», — утверждали святые отцы. Отныне открыт путь, преодолевающий бездну ничто, и иудаистические пропорции соотношения причины и следствия преодолены. Открытие невероятной, головокружительной перспективы обожения для всего мира релятивизирует ветхозаветное, «сеннописательное» моральное понятие о зле и добре.
Хотя христианская эсхатология (как и иудаистическая) рассматривает историю мира трагично, как деградацию, упадок, разложение, и сам Христос приходит в «последние дни», тем не менее в рамках самого христианского цикла существует «золотое тысячелетнее», «хилиастическое царство», которые православные отождествляли с Византийской империей. В русском Православии после падения Царьграда была разработана теория о «дополнительном сроке», промыслительно прибавляемом к этому «тысячелетию» — отсюда идея «Москва-Третий Рим». Но когда и Москва отступает от древлего благочестия (раскол), то впереди остается лишь «страшный суд» и приход антихриста.
В православной эсхатологии, проистекающей из радикально осознанной «онтологии спасения», добро отождествляется с Церковью и правоверием, куда включается и социально-политическая реальность. Православная Церковь, православный Царь и православный народ выступают как онтологическое единство, земное вместилище вселенского блага. Динамика обожения ставится в центре внимания. И именно от этой новозаветной экклесиологической и эсхатологической онтологии добра следует откладывать обратную теорию зла. Не имея самостоятельного корня в бытии, зло, тем не менее, приобретает внушительный объем именно в эсхатологической ситуации, выступая как иеро-исторический вектор, направленный против благодатной онтологии Православия. В православной эсхатологии зло обретает особое измерение. Не онтологическое, но и не волюнтаристски моральное. Оппозиция сотериологической динамике наделяет антихриста отблеском онтологии. Однако это очень сложная тема, требующая постоянного соотнесения с основами метафизики христианства{9}.
В рамках христианства существовала еретическая версия — гностицизм, где проблема зла имела совсем иное звучание. Гностические толки были довольно различны, мы же обратимся к дуалистическому гнозису (к примеру, течению «офитов», «барбело-гностиков» и т.д.). Гностики-дуалисты доводили христианскую метафизическую установку относительно наложения в христианском учении креационистской (ветхозаветной) и манифестационистской (церковно-новозаветной) онтологий до их противопоставления. То, что у православных сопоставлялось, у гностиков (а затем у Маркиона) противопоставлялось. Гностики-дуалисты отождествляли зло с креационистски понятым творцом (демиургом) и с самой системой отчужденных отношений между творцом и тварью. Иными словами, онтология «Ветхого Завета» демонизировалась, наделялась отрицательным знаком. Творец, признаваемый узурпатором, отождествлялся с корнем зла, а его творение — с тюремной системой или адом, с «концентрационной Вселенной».
Этому злу противопоставлялось добро в виде «общины избранных», «гностиков», «знающих» — т.е. «познавших, обман мира». Эта община «сынов света» отождествлялась с гностической Церковью, основанной Спасителем. Спаситель открыл истину о злом демиурге и научил, как его преодолеть и выйти за его пределы — в световую плерому, истинный мир, в центре которого пребывает «добрый Бог». Это и есть содержание «Нового Завета». Эта экстремальная форма представления о зле в квазихристианском контексте очерчивает для нас адогматический предел, противоположный иудео-христианской онтологии зла, которая выходит за рамки христианской ортодоксии в ряде протестантских сект, тяготеющих к метафизическому отождествлению с иудаистской теологией и, тем самым, к утрате всех собственно христианских черт. Между этими еретическими полюсами расположены различные собственно христианские версии онтологии зла.
Теперь об исламе. Ислам — традиция безусловно креационистского типа. Там говорится о «единобожии», о «творении из ничто». Эта традиция ритуалистского типа, мораль в ней автономной онтологии не имеет.
Роль Иблиса (шайтана) там достаточно скромная. «Коран» говорит: «Иблис не захотел поклониться Адаму, которого сделал Аллах, из-за того, что он был сотворен первым. Из-за своей гордыни он был низвержен с небес». При этом такого напряженного, драматического отношения ко злу, как в других креационистских традициях, в Исламе нет. Речь идет не об этическом выборе, но скорее о соблюдении порядка, как в конфуцианстве. Украл человек — отрубили руку, не украл — не отрубили. Вместо морали и напряженности этического выбора — система правил, которую следует жестко соблюдать.
Ислам имеет внутреннее, мистическое измерение. Суфийская версия ислама приближается к индуистской. Там подчеркивается неонтологичность зла. В качестве иллюстрации ограниченности системы исламских правил, суфии подчас нарочито их нарушают, доказывая, что онтология может проявлять себя как в подчинении системе ритуальных обязательств, так и в их нарушении. Это — особый «эзотерический антиномизм». Осуществляя нарушение запретов, суфии демонстрируют, что «зла нет», что божественное присутствие преодолевает любые преграды. Великий суфийский авторитет Аль-Халладж довел эту идею до прямой практики «священного богохульства», провозгласив во всеуслышанье недопустимую по канонам исламской теологии формулу: Ана-ль-Хакк, т.е. «Аз есмь Истинный», «я — Бог». За это его казнили, но и это добровольное мученичество входило в инициатический сценарий. Идя на святотатство и мучительную кончину, Аль-Халладж демонстрировал, что святотатства и мучительной кончины в высшем экстатическом опыте единства с Божеством не существует.
Зло обретает особый статус лишь в шиизме. Показательно, что шиизм особенное распространение получил в Иране — в стране с особой, самобытной духовностью, сформированной в значительной степени зароастрийской метафизикой, где, как мы видели, зло имело серьезную онтологическую и эсхатологическую подоплеку.
С точки зрения шиизма, в реальности существует световой полюс — это имамат, «святой имам», который является ядром световой реальности и ключом к тайнам судеб мира. «Имамы» есть и до Мухаммада и после него. Это — «соль мира». «Свет имамата» является предвечным, напрямую связывает творение с Божеством. Бог, разделенный с творением в креационистской плоскости (за это отвечают пророки и экзотерическая доктрина), соединен с ним в тайном манифестационистском союзе (за это отвечают «имамы» и «верные им»). Самые крайние шииты утверждают, что «имамы имеют божественную природу» (лавхут).
У последнего пророка имамом был его двоюродный брат Али, женатый на его дочери — Фатиме. Али погиб мученической смертью. Потом имамат был передан его сыновьям Хасану и Хусейну, судьба которых также была трагичной. От них идет линия имамата дальше. Всего в этом цикле есть либо 12 имамов (у шиитов-двенадцатиричников), либо — 7 (у исмаилитов и алавитов: клан алавитов, миноритарный среди суннитского населения, правит до сих пор в Сирии). Трагичная история имамов имеет еще более трагичное продолжение. В определенный момент «последний имам» из всей серии исчезает и начинается период «великого сокрытия» — гайба. Имам становится «скрытым», вещи мира, его история, понимание событий и смысл происходящего — все это сбивается в хаотический клубок. Отныне все находится не на своем месте, преобладают силы зла и тьмы. Истинного толкования ислама и «Корана» более никто не знает, это остается тайной за семью печатями. Отсюда императив борьбы с силами зла, с этим десакрализованным миром. Шииты становятся воинами, эсхатологическими героями, призванными вести отчаянную битву с эсхатологическим мраком, не имея точки световой опоры.
Эта трагическая битва будет увенчана открытием последнего скрытого имама, его появлением, его «пробуждением». Он снова придет в мир на пороге конца света под именем «Махди» и восстановит справедливость. В этом эсхатологическом сценарии, в онтологии имамата и сотериологии Махди мы сталкиваемся с картиной, довольно точно воспроизводящей зароастрийскую циклологию. Конечно, эксплицитно здесь нет онтологизации зла, но императив борьбы с ним в условиях «великой гайбы» приобретает столь существенный характер, что выходит далеко за рамки обычных морализаций, характерных для строгого креационизма.
В исмаилизме, который считается другими направлениями ислама «ересью», онтология зла более развернуто описана. Вкратце схема такова:
Высшее Божество производит из себя иерархическую систему «логосов» — каламов («писчих перьев»). Первые два «логоса» рождаются без проблем, но третий логос внезапно удивляется тому, что он не первый, и начинает сомневаться в Высшем Божестве. Тень сомнения становится его двойником. В наказание или под тяжестью двойника третий логос падает вниз и оказывается под всей иерархией — на месте десятого логоса. Там он творит из себя мир. В этом мире есть его субстанция — это световая часть мира, и субстанция его тени (сомнения) — это темная часть мира. Светлая часть воплощена в «имамате», тень — во врагах «имамата». История мира предопределяется диалектикой борьбы этих начала. В конце циклов тень полностью гипостазируется в фигуре Даджала, «Лжеца», который даст последний бой «Махди» или Кайиму («Воскресителю»), в котором, напротив, сконцентрируется весь очищенный свет «имамата». Последняя битва будет финальным столкновением светлой стороны третьего логоса со своим сомнением. Она должна, по вере исмаилитов, закончиться победой «Кайима». После этого гипостазированная тень, ставшая, наконец, чисто внешним для самого третьего логоса явлением, рассеется. Результаты этой победы изменят всю структуру реальности. Мир вернется в лоно десятого логоса, откуда он вышел, но только уже очищенный от теневой составляющей. Сам десятый логос начнет свой подъем вверх и интегрируется на свое законное третье место во главе иерархии. Это называется «Воскресением воскресений» (каймат-уль-кайямат).
В такой ситуации — удивительно напоминающей эсхатологию зароастризма — зло (здесь «тень сомнения») имеет очень фундаментальное значение, так как именно оно лежит в основе динамического развития всей реальности. Зло существует до мира, его существование является основной мотивацией появления мира, его наличие определяет структуру мира, победа над ним является залогом воскресения мира, и более того, прелюдией к восстановлению истинных метафизических пропорций, нарушенных на первых этапах онтологического развертывания высших метафизических пластов.
»Современный мир» как синоним «великого зла»
Все традиции{10}, о которых мы говорили, утверждают, что мы живем в конце цикла, причем, этот конец цикла видится как результат длительного процесса деградации, т.е. «накопления зла». Все традиции единодушны в определении основного качества нашей эпохи — это качество есть максимализация зла. Традиции по-разному определяют сами себя, имеют различные догматические и метафизические формулировки, но все они едины в том, что делает их именно традициями — они ставят в центре внимания сакральные ценности, они почитают высшее сверхчеловеческое начало, они с доверием и почтением относятся к духовному знанию, унаследованному с древних времен. Конкретные традиции суть диалекты того, что мы назвали «языком Традиции». «Современный мир» есть антитеза Традиции как таковой, Традиции в самом общем виде. Он основан на отрицании того, что составляет сущность Традиции, ось «традиционного общества», структуру «языка Традиции». Поэтому он не может быть оценен всеми версиями Традиции никак иначе, как зло. Причем, чем более сознательными и программными являются заявления «современного мира» относительно утверждения своих парадигм в качестве нормативных, тем полнее они отождествляются со злом в оптике Традиции.
«Абсолютная идея европейского человечества», особенно начиная с Нового времени, состоит именно в абсолютизации «парадигмы современности», в эксплицитной ориентации на преодоление «традиционного общества», на «освобождении» от ценностей «прошлого», т.е. собственно, от «языка Традиции». Размах и последовательность, настойчивость и тотальность этой антитрадиционной деятельности является беспрецедентной. Даже в самые страшные периоды упадка Традиции — воспоминания о которых сохранились в древних преданиях, в частности, о Ноевом потопе или строительстве Вавилонской башни — эти тенденции никогда не достигали такого накала. Следовательно, с позиции Традиции, «современный мир» следует истолковывать в самых определенных эсхатологических терминах. Речь идет именно о «великом зле».
Поскольку в некоторых традициях, как я показал выше, зло и оперирование со злом имеет важнейший метафизический характер, то сам «современный мир» приобретает в их контексте особое значение, а борьба с ним, противостояние ему, победа над ним или мученичество, от него принятое, становятся элементами судьбоносной драматической мистерии — мистерии развязки истории.
В нашем мире границы тысячелетий резюме «абсолютной идеи европейского человечества» запечатлено в образе «нового мирового порядка», «новой экономики», Соединенных Штатов Америки, атлантистской стратегии, реальной доминации капитала, мондиализма (глобализма) и т.д.. Все это представляет собой наиболее отточенную, выверенную, совершенную форму «тезиса современного мира», «тезиса Запада». Это и есть максимально приближенное к парадигматическому архетипу, осуществившееся исторически и географически «великое зло», ставшее явью, ставшее основным процессом развития мира, главным содержанием истории.
Зло «современного мира»: десакрализация или темная сакральность?
Следует обратить внимание на следующий важный момент.
При квалификации «современного мира» как «великого зла» есть два возможных подхода.
Первая возможность состоит в том, чтобы рассмотреть «современный мир» как «несакральность». На протяжении всех лекций я доказывал, что специфика «языка современности» заключается именно в десакрализации. Если мы внимательно рассмотрим генезис, историю происхождения «абсолютной идеи европейского человечества», мы увидим как раз, что она сформировалась именно исходя из предпосылок иудаистского, креационистского подхода, абсолютизировала его, а потом привела к секулярному виду. В средневековой схоластике эта парадигма существенно уравновешена христианскими догматами и аристотелизмом{11}. В протестантизме она проступает более явственно. Фундаментальным шагом к чисто профаническому пониманию структуры реальности были труды Галилея{12}. Галилей — один из самых главных авторов «языка современного мира», зловещая фигура, чей агрессивный профанизм не был уравновешен дополнительными моментами, что было характерно для большинства деятелей Возрождения, и даже Просвещения, которые параллельно с разработкой секулярно-профанических доктрин культивировали иррациональные темы, вполне в духе «сакральных наук».
Любопытно, что Пол Фейерабенд убедительно показал, что эксперименты Галилея были шарлатанскими фокусами и подделками, некорректными с научной точки зрения. Все, что он тщился доказать, пуская шары по желобкам, оказалось надувательством. Во-первых, результаты получались совсем иными (Фейерабенд не поленился поставить те же эксперименты), а во-вторых, даже если бы они получились, трактовать их можно было совершенно по-разному, и в частности, в духе полного опровержения выводов ученого относительно законов инерции, физического атома или «актуальной бесконечности». Однако, миссия Галилея состояла в том, чтобы заложить в европейскую ментальность очищенную парадигму десакрализованного отношения к структуре реальности на физическом и физико-математическом уровне. Галилей выработал основы той научности, которая стала отправной точкой «современности». Ни Ньютон, ни даже Декарт, которые обычно рассматриваются в качестве архитекторов ментальности «современного мира», не являются столь чистыми типами «десакрализаторов», как Галилей. В иерархии «великого зла» он занимает очень важное место.
Определение сущности зла «современного мира» как десакрализации — это один подход. Но здесь возникает довольно тонкое соображение: для того, чтобы оперировать с понятием «десакрализация», надо досконально понять основной метафизический вектор западной ментальности, западной культуры, западной науки. А это, в свою очередь, требует глубокого и детального понимания этапов генезиса этой ментальности: от метафизической революции креационизма через сложнейшие операции с этим началом в христианской догматике, через девиации этой догматики во времена схоластики, через номинализм, через нововведения протестантской теологии до секуляризации основных парадигмальных установок в Новом времени и Просвещении (все остальное — лишь развитие этих секулярных моделей европейской парадигматики, а также история противостояния им со стороны «крипто-традиционализма», использовавшего «язык современности» для того, чтобы высказать на нем ряд подрывных и по сути «антисовременных» тезисов). Однако проделать этот сложнейший анализ способен человек, с одной стороны, принадлежащий к западной цивилизации, прекрасно осознающий ее основы и метафизические начала, а с другой — свободный от ее гипноза и сознательно наделяющий высшей ценностью именно Традицию, сакральное. К этому типу относятся европейские традиционалисты (Р.Генон, Ю.Эвола, М.Элиаде) и некоторые проницательные философы (Ф.Ницше, М.Хайдеггер). Осознать, что такое десакрализация, и отождествить именно ее с «великим злом», учитывая и осознание самоидентичности западной культуры и то, как понимает ее Традиция, может довольно узкий круг людей, по разным причинам занимающих «пограничное» положение между «языком Традиции» и «языком современности».
Теперь мы подходим ко второй возможности осмыслить «великое зло».
Дело в том, что люди Традиции, даже достигшие ее глубин, в большинстве случаев не способны проделать интеллектуальную операцию, необходимую для того, чтобы адекватно понять сущность «десакрализации». Для этого им надо опуститься в такие толщи демонологии, в такие нюансы сатанизма, которые они едва ли способны себе представить. Могут возразить, что «вестернизация» традиционных обществ — массовое явление. Это верно, но характер этой «вестернизации» не до конца очевиден. Среди «вестернизированных» представителей традиционных обществ лишь ничтожно малый процент, действительно, способен освоить парадигмы Запада на уровне, сопоставимом с самими западными людьми. Что такое «творение из ничто», «автономная мораль», «критика чистого разума», «физический атом» для сознания человека Традиции? Пожалуй, это представляет для него мыслительный тупик. И скорее всего, эти темы будут перетолкованы им в совершенно ином парадигмальном ключе{13}. «Творение» он бессознательно отождествит с «проявлением», «мораль» — с «системой сакральных правил и обрядов», «правила рассудка» с одной из версий «логики мифа», «физический атом» с аналогом «элементов» (стихий) древнегреческих философов. В некотором смысле, часть европейского человечества (к примеру, ирландцы, испанцы, немцы и, особенно, славяне, а среди них, русские) и сама сохраняет черты «традиционного общества», а следовательно, в западной культуре есть сектора, которые или существенно отклоняются от «абсолютной идеи европейского человечества», или даже откровенно ей противостоят. Одним словом: «вестернизация» не всегда и не до последних глубин затрагивает тех, кто ей подвергается, и понимание базовых, языковых, парадигмальных реальностей часто остается недоступным.
В таком случае, расшифровка «великого зла» как десакрализации остается уделом узкой группы традиционалистов. А как понимает это же явление — «великое зло» — человек Традиции? — Как «темную сакральность». Иными словами, явление профанизма, «современного мира» отождествляются у людей Традиции с теми эсхатологическими фигурами и образами зла, которые присутствуют в их сакральных доктринах. Неспособные даже помыслить нечто вообще несакральное, люди традиционного общества наделяют «современный мир» качеством «черной сакральности», «сакральности» зловещей и перевернутой, пародийной и устрашающей, сакральности адской, гибельной, уничтожающей. В оптике Традиции происходит вторичная темная «онтологизация» «современного мира». Так как зло в Традиции тем или иным образом онтологично, то и дезонтологизм западной цивилизации интерпретируется не так, как он осознает сам себя и как его понимают традиционалисты, принадлежащие узкой кромке промежуточного пространства, а в привычных для языка Традиции сакральных терминах.
Так, для индуистов «современный мир» — это синоним «кали-юги», а Запад — планетарный штаб «черной богини» и ее адептов. Для православных — это сфера антихриста. Мусульмане отождествляют его с Даджалом. Иудеи применяют термин из «Зохара» — эрев рав, «великое смешение». Для зароастрийцев, манихеев, гностиков и дуалистов — это «дети тьмы». Для буддистов — самые плотные регионы «сансары», химеры демона Мара. Десакрализированный мир Запада сакрализируется в форме ада.
Здесь, однако, кроется очень серьезный подвох. Дело в том, что тематика онтологического зла активно используется в традициях для внятного описания того, что выходит за рамки этического позитива в их собственных системах. Так как большинство традиций, с догматической точки зрения, являются несовместимыми, то квалификация догматических систем других традиций, особенно имеющих какие-то точки соприкосновения, будет проходить в «инфернальном» контексте.
Так, для иудеев ислам, и особенно христианство, являются особо опасными ересями. Христианская доктрина изначально и исторически подчеркивает свою идентичность в оппозиции к принципам иудаистской теологии. Все «монотеистические» религии, постулирующие креационизм, в равной мере неприязненно относятся к манифестационистским традициям — индуизму, буддизму, т.н. «политеизму» и т.д. Оппозиция между дуалистической метафизикой зароастризма и адвайтистским индуизмом запечатлена даже в обратной симметрии в именах богов и демонов. Между индуизмом и буддизмом имеются также самые серьезные противоречия: основная линия буддизма отчетливо опровергает именно индуистскую онтологию, подчеркнуто отрицая манифестационистский онтологизм индуизма (буддистские тезисы «сансары», «пустотности», «анатмана», отсутствия у «я» онтологии, имеют явно антииндуистскую полемическую направленность). Великодушные индусы в духе своего холизма относятся к буддизму иначе: они делают Будду девятым аватарой, т.е. воплощением Вишну, который пришел в мир для испытания индуистов, предложив им ложное учение. Во всех случаях респективная оценка инаковых догматических систем сопряжена с их демонизацией{14}
Следовательно, мы подходим к сложной ситуации. Квалификация «современного мира» как «великого зла» в обычной перспективе Традиции не отличается качественно от того, как различные традиции оценивают инаковые догматические комплексы. Иными словами, в одну и ту же категорию попадает две радикально отличные друг от друга реальности: иная сакральность и десакрализация (несакральность). Совершенно логично, что в определенных конфигурациях эти реальности связываются. Отсюда возникают ассоциации между западной десакрализацией и догматикой инославных традиций. Наиболее известной (печально известной) формулой из этой категории является идея об «иудейском заговоре», ставшая важным интерпретационным инструментом для христианских консерваторов, отождествивших процессы «десакрализации» западной цивилизации с нехристианской теологией иудаизма{15}. Аналогичный ход умозаключений вполне применим и к другим религиям. Так, к примеру, некоторые направления радикального ислама отождествляют профанический десакрализированный «новый мировой порядок», устанавливаемый сегодня Западом и, особенно, США, с экспансией христианства и иудаизма. Современный иудейский фундаментализм, в свою очередь, «разоблачает» «исламскую угрозу», обнаруживая «саудовский след» во всех явлениях, где ущемляются интересы Израиля.
Самое важное, что системы подобных отождествлений заведомо препятствуют организации единого традиционалистского фронта, лагеря «языка Традиции» против «великого зла», «языка современности», «абсолютной идеи европейского человечества».
Резюмируя эти соображения, следует признать: чтобы адекватно осознать значение «языка современности», понять истинную природу и структуру «великого зла», необходимо придерживаться первого пути, как бы сложен он ни был для людей Традиции. В противном случае неправомочное отождествление процесса десакрализации с «темной сакральностью» не только приведет к погрешности в оценке «великого зла», сделает его вместо «великого зла», просто «злом», но и создаст непреодолимые преграды в стане защитников Традиции, так как взаимные догматические и метафизические различия будут иметь в целом равный статус в сравнении с антитрадиционным (применительно ко всем типам Традиции) «тезисом Запада».
В этом смысле, как это ни парадоксально, но выводы традиционализма оказываются более проницательными и адекватными, нежели оценки людей Традиции, с трудом способных осознать саму возможность существования того, что не просто относилось бы к «темным сторонам» Традиции или к иным версиям Традиции, но лежало бы вообще радикально вне ее парадигм.
Теперь перейдем к особой перспективе, к тому, что можно назвать «эсхатологической метафизикой» в чистом виде.
Двадцать лет назад я был одержим определенным метафизическим видением... Я старался его как-то систематизировать и начал писать первую книгу с условным названием «Тамплиеры Иного». В конце восьмидесятых я ее закончил. Я так и не опубликовал ее, поскольку не вижу в этом большого смысла. Эта книга содержала метафизический взгляд на наш мир, на качество нашего исторического момента с позиции предельной безысходности. Это была метафизика полного, тотального отчаяния, даже, пожалуй, пост-отчаяния. Сказался опыт проживания в позднесоветском мире, который произвел на меня совершенно травматическое впечатление. Я увидел в нем нечто подобное жестокой реальности техиру из учения Исаака Лурии, мир «пневматического ничто», то есть мир, оставшийся после того, когда Божество скрылось в самого себя{16}. Темные профили остаточных рельефных зданий, которых уже нет, желтые стрелы подъемных кранов, врезанных в черное небо, окна, выкопанные лица, пласты невиданных структур, загадочные очереди, странная активность людей в метро... Мир настоящего холодного и бессодержательного инферно...
Суммировав метафизические наблюдения, я выработал определенную гипотезу относительно природы великого зла. События перестройки несколько релятивизировали актуальность этого труда... Открылась возможность борьбы с «современным миром» на более конвенциональном социально-политическом уровне. Оказалось, что не все еще так страшно, что еще кто-то способен сопротивляться наступающему холоду сатанинской весны. В свете этих событий я взял на себя труд в течение десяти с лишним лет заниматься традиционалистским просветительством в довольно конвенциональном смысле. На мой взгляд, это было необходимо для укрепления традиционалистского духа, для прояснения метафизических позиций, для консолидации тех сил, которые могли бы, сознательно или нет, встать на защиту сакрального, чье парадоксальное присутствие обнаружилось тогда, когда мы почувствовали на себе дыхание реального Запада. Инфернальность позднесоветского бытия оказалась куда более привлекательной, нежели то, что предлагалось «новым мировым порядком»{17}.
Сейчас я хотел бы сказать несколько слов про эту «новую метафизику». Мне представляется, что ее актуальность постепенно нарастает, хотя сегодня она гораздо ниже, нежели в то время, когда книга писалась.
Я полагаю, уже опубликовано много текстов, прочитано много лекций по конвенциональному традиционализму. Так что определенный «огласительный» долг я выполнил. Быть может, пришло время коснуться более серьезных и страшных вещей...
Итак, новая метафизика, которую я вчерне разработал в юности, исходит из следующего постулата: процесс истории есть процесс прогрессирующей десакрализации. Все то, о чем я говорил в этой лекции, вполне вписывается в этот контекст. Распыление шара бытия составляет смысл мировой истории, истории бытия. Сакральность умаляется.
Можно вспомнить фигуру в книге Николая Кузанского, так называемую парадигму. Она представляет собой черный треугольник, направленный вершиной вверх, и белый треугольник, направленный вершиной вниз (рис. 1).
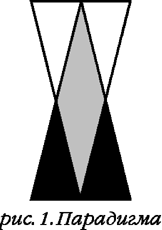
Между ними образуется серый ромб, фигура напоминает песочные часы.
История бытия есть процесс движения от основания белого треугольника к его перевернутой вершине, что означает сужение света и расширение тьмы, сужение сакрального и расширение профанического. Теперь рассмотрим крайнюю ситуацию, когда площадь белого светового треугольника стянута к одной точке на линии, которая представляет собой основание черного треугольника. Здесь появляются тончайшие метафизические моменты.
Я задумал основать целую метафизику на внимательном анализе именно этой специфической ситуации, поскольку она вскрывает совершенно неожиданные, необычные тайны, заложенные в сердце реальности.
Сакральное по мере движения к этой точке, к концу цикла, сокращается, рассеивается. Но поскольку сакральное не есть некий механический объект, скажем, снежный шар, который тает под воздействием лучей солнца, а особая воля, живое, божественное присутствие, то его нельзя рассматривать формально, будто ему повелели — катись вниз, теряй вес, и оно покатилось, теряя вес... Сакральное — это живое, стоящее вертикально, сопротивляющееся инерции и гравитации. А если это так, то не существует ли некой странной мысли у самого сакрального, — причем, еще в небесной ангелической полноте «золотого века», — мысли, замысла самоистощения, движения к противоположному полюсу, к апогею «великого зла»? А если это так, то достижение низшей точки, столкновение лицом к лицу с мировым злом, и соответственно, самосокрытие сакрального, имеет фундаментальный смысл.
Это не просто трагедия, беда, случайность: снесло ураганом крышу, сгорел дом. Это особое телодвижения Промысла, божественное волеизъявление, направленное на то, чтобы сакральное сокрылось. И эта логика Промысла первична, именно она предопределяет позднейшую победу профанического, гипнотические трюки Нового времени.
В такой перспективе оказывается, что отнюдь не Галилей и прочие подрывные элементы, породили структуру Нового времени, новой науки, Просвещения... За волей сакрального к самосокрытию угадывается гораздо более глубокая реальность, которая не только не ниже природы сакрального, но, вероятно, выше ее... Это не просто проигрыш хорошего перед лицом плохого из-за слабости хорошего и силы плохого. Обнаруживается тонкое соучастие сакрального в процессе своего собственного умаления. Помимо того качества сакрального, которое призвано стоять там, где оно стоит, противиться процессам энтропии, есть у него еще какие-то парадоксальные аспекты. Иными словами, существует таинственный сектор «языка Традиции», который ответственен за умаление сакрального, за сворачивание этого языка. Итак, эсхатологическая ситуация не просто эфемерная победа темного начала — временному триумфу «великого зла» предшествовало тонкое пособничество со стороны самого сакрального, то есть внутри сакрального, которое противостоит в целом десакрализации, на самом деле, есть инстанция, который потворствует антисакральной воле, как это парадоксально ни звучит. Оказывается, в самом добре, в его полноте есть какой-то смутный, сложный элемент, chip, компонент программы, который ориентирован на то, чтобы добро перестало быть самим собой, перешло в иное качество. В момент достижения предельной эсхатологической точки, в момент высшего триумфа антисакрального «языка современности», по мере того, как сакральное осыпается, как сосульки, растекается, исчезает, испаряется, когда все указывает на то, что его вообще больше нет — только что было, а тут раз — и нет, в этой критической, неопределенной, драматической ситуации то, что остается, приобретает абсолютно новое метафизическое значение.
Сакральное не как карбид, брошенный в лужу — лишь шипит и пассивно растворяется, и не как консерваторы из КПСС времен перестройки — вроде есть, всю страну держат, но — раз! — никого нет, лишь сморщенная лягушачья шкурка... В сакральном как таковом обнаруживаются две части. Одна — объектная, она действительно медленно расходится, растворяется в коррозивных водах современности. Но есть в нем что-то еще, что не могло не знать и даже позволять втайне соучаствовать в процессе разложения, направлять его. Это «что-то еще» представляет собой наименее очевидное, парадоксальное, загадочное измерение сакрального. Оно должно было наличествовать как «скрытое измерение» и в райском мире, когда сакральным было все, расцвечивая чудесными онтофаническими энергиями все бытие. И в этом райском состоянии был сокрыт некий очень тонкий и очень важный компонент. Видимо, он и подтолкнул сакральное к испытанию, к вступлению в циклы развертывания, к саморастрате в темных лабиринтах истории — истории как нисхождения и самоотчуждения.
Образно можно сказать, что это измерение сакрального как бы ставило над самим собой эксперимент — останется ли огонь огнем, если дрова закончатся и внешнее пламя угаснет? Это опыт исследования внутренней природы огня...
Есть алхимический рецепт добывания «огня мудрецов». Первый способ состоит в том, чтобы сделать максимально сильным внешний огонь и под его воздействием внутренний огонь, «огонь мудрецов», пробудится в недрах субстанции. Второй способ состоит в обратном: следует поместить субстанцию в среду максимального холода и тогда как крайняя реакция скрытый огонь проявит себя.
Это представление о двух способах добывания огня не равнозначно. Та «новая метафизика», на которую я намекаю, безусловно, строится на второй операции, на операции «абсолютного холода» . Тот внутренний огонь, который зажигается под воздействием внешнего, т.е. те онтологические параметры, которые проявляются под воздействием среды, пропитанной присутствием сакрального, несет в себе определенный микроскопический, но от этого не менее значимый метафизически дефект. Это, в последнем счете, «полувнутренний» огонь, не совсем внутренний, хотя и огонь. Это огонь заимствованный. Только тот огонь, который возникает под воздействием абсолютного льда, есть подлинно внутренний огонь, активный и самотождественный, а не реактивный и спровоцированный.
По аналогии можно сказать, что радикальным субьектным является не то внутреннее сакральное, которое существует в рамках большого внешнего сакрального, и продолжает существовать по инерции до той поры, пока сохраняется внешняя сакральная среда, а когда сталкивается с ледовыми реальностями — с айсбергами «языка современности», с Галилеем, паровыми машинами, с радио изобретателя Попова, с «Критикой чистого разума» и идеологией «свободного рынка» и «прав человека» — то начинает постепенно растворяться. В «новой метафизике» мерцает тревожное подозрение: может быть хорошо, что такое сакральное растворяется? Может быть, и правильно, что с ним его противники поступают довольно жестоко и беспощадно? Может быть, только то сакральное (возможно, это уже нечто большее, чем просто сакральное) ценно, которое пребывает внутри сакрального, когда оно превалирует, но некуда не исчезает даже в том случае, когда внешне сакрального больше нет, когда внешние условия для существования сакрального исчезают?..
Эту сторону сакрального, которая остается сакральной даже в той ситуации, когда сакральное полностью исчезает из внешнего мира, когда мир десакрализуется, в «новой метафизике» называется радикальным субъектом.
Когда весь или почти весь объем сакрального растворен, тогда возникает другое парадоксальное явление — «постсакральная воля», второе важнейшее понятие «новой метафизики». Постсакральная воля — это инструмент радикального субъекта. Это не просто воля к реставрации сакрального, это, скорее, воля к отрицанию всего, но так как все в наших эсхатологических условиях тождественно триумфу «языка современности», глобализации этого языка, то она обращена радикально именно против этого языка, против «абсолютной идеи европейского человечества». Но вместе с тем это абсолютное противостояние «языку современности» не является продолжением импульса «языка Традиции». Это нечто совершенно постороннее.
Конечно, постсакральная воля как-то связана с волей сакральной, как постсоветское пространство связано с советским пространством, но они представляют собой принципиально разные вещи. Постсакральная воля очень похожа на сакральную волю, но фундаментальная разница состоит в том, что она не обоснована (инерцией сакрального). Она является безосновательной, беспочвенной. Она говорит «нет» «языку современности» не потому, что она сама (прямо или косвенно) сформирована «языком Традиции». Она скорее есть элемент «языка современности», но такой элемент, который категорически отказывается признавать этот язык положительным явлением{18}.
Постсакральная воля — это след присутствия радикального субьекта, который через нее дает о себе знать. Как действует постсакральная воля, какова ее траектория? Эта траектория очень странна, по крайней мере, она никак не укладывается в ту модель, которой я посвятил большую часть сегодняшний лекции и которая связана с оценкой качества современного мира в оптике «языка Традиции».
Постсакральная воля согласуется с основными координатами «языка Традиции» под очень сложным углом. Точки пересечения образуют сложный не ортогональный узор... Эта вечно загадочная постсакральная воля напоминает кузнечика, который сейчас — здесь, а потом — там, она смешивает карты, меняет сложные ракурсы соотношений и связей метафизических реальностей нашего мира. Идя радикально против «языка современности», она не принадлежит, строго говоря, к классическим парадигмам «языка Традиции». Постсакральная воля так же, как и радикальный субъект, является реальностью, полностью ускользающей от нашего понимания и восприятия. Мы не можем ее зафиксировать, мы не можем ее описать, мы не можем ее «этизировать» (приравняв к добру или злу), мы не можем ее онтологизировать (утверждая, что она есть или что ее нет). Но, на самом деле, это самый интересный и самый глубокий срез метафизики, который преимущественно оставался за бортом великой традиции. Традиция знает и всегда знала все и обо всем, она знает о «новом мировом порядке», о Джордже Буше-младшем, о бомбардировках Ирака, знает о Владимире Владимировиче Путине, и у него есть имя и свое место в книге знания... Иерархи великой Традиции, ее пророки видели прошлое, будущее, путешествовали по мирам. Традиция в разных своих версиях и модификациях практически все метафизические вопросы решила, каждому явлению, событию, существу, явлению прошлого, настоящего и будущего в Традиции есть свое место и свое объяснение. Традиция в курсе всего, у нее долгая память и длинные руки... Но что-то, совсем незначительное, на первый взгляд, бесконечно малое осталось вне зоны высшего внимания Традиции. Что-то, что принципиально не могло быть включено в ее ткань, несмотря на то, что было учтено все.
Вот именно это, оставшееся за бортом, при том, что все было учтено, обнаруживает себя сегодня на грани небытия, когда Вселенная находится на последнем издыхании, на последним выдохе падающей в пропасть, в бездну реальности... Это последняя возможность, последний маневр для фантасмагорического эксперимента... Постсакральная воля имеет дело с абсолютным злом, с тем «великим злом», которое Традиция и все ее разновидности однозначно признают за таковое. Это великое зло в целом проявляет себя в абсолютной идее европейского и американского человечества, с которой мы начали, приведя цитату из Гусcерля.
Постсакральная воля проявляет колоссальный интерес к той реальности, в которой мы находимся, с высшим вниманием относится к ее структуре и ее качеству. Но чему служит то зло, с которым мы имеем дело? Чему служит понимание этой реальности как зла? Не в рамках сакрального, это понятно, а в рамках постсакральной воли?
Вот здесь начинается неописанная, невозделанная сфера «новой метафизики».
Абсолютное зло современного мира, с которым мы сталкиваемся, сам «язык современности» — обезвоженный пейзаж тотально десакрализованного мира — именно эта реальность служит для постсакральной воли, для пробуждения с ее помощью, для голографического выражения радикального субъекта главным инструментом и главным аргументом.
Я коснулся темы «новой метафизики» слегка, скорее как намек. Можно воспринимать это как своего рода bonus для слушателей Нового Университета. Я не уверен в том, что эту линию стоит развивать в дальнейшем, и у меня нет ясного понимания того, стоит ли думать и говорить на эту тему вообще. Здесь рядом таится нечто настолько страшное, что вдребезги разлетаются все правила метафизической безопасности...
Еще более конкретно: если у «языка Традиции» есть хотя бы малейшие шансы для эффективного сопротивления «языку современности», то тема «новой метафизики» оказывается явно излишней, возможно, вредной. Коль скоро перед нами открывается возможность «войны языков», наш долг быть в гуще боя — любая отстраненность, отвлеченность равнозначны дезертирству. Если Традиция еще дышит, если сакральное еще корчится и мучится от яда «абсолютной идеи европейского человечества», мы должны быть с ним и в нем, на его стороне, любой ценой, в любом качестве.
Но если выдох замрет, и белый холодный труп истории всплывет перед нашим озверелым взглядом с обнаженной наглядностью факта, пусть у нас останется лазейка для нового направления мысли. Лазейка «новой метафизики», имеющей свои собственные взгляды на сущность и роль, на тайну происхождения и эсхатологический смысл «великого зла».
Примечания
{ 1 } Бытие (11,4-9). >>
{ 2 } В недавнем прошлом таким был спор о
введении ИНН в России. Несмотря на протест
«фундаменталистов», индивидуальный компьютерный код,
содержащий «число антихриста» — 666 — был принят и признан
под давлением не только светских властей, но и церковной
иерархии. >>
{ 3 } Подробнее см. лекцию «Сатана и проблема предшествования» >>
{ 4 } Там же. >>
{ 5 } См. Предыдущие лекции, а также:
А.Дугин «Метафизика Благой Вести». в кн. «Абсолютная
Родина», М, 1998, «Эволюция парадигмальных оснований
науки», М., 2002. >>
{ 6 } См. кн.: А.Дугин «Метафизика Благой
Вести», указ. соч. >>
{ 7 } Там же. >>
{ 8 } Там же. >>
{ 9 } Там же. >>
{ 10 } Исключением является разве что
китайская традиция, которая не придает циклам большого
значения. >>
{ 11 } Аристотель представляет собой линию
«предельно рационализированного имманентного
манифестационизма». >>
{ 12 } Подробно эта тема освещена в кн.
А.Дугин «Эволюция парадигмальных оснований науки», М.,
2002. >>
{ 13 } Всякий раз, когда русскому ученому,
например, Попову, попадается в руки томик Галилея, он его
не читает так, как должен читать тот, к кому Галилей
обращается. Он его читает как архаический человек, как
«шаман»...Он начинает конструировать радиоаппарат для
общения с мертвыми, с их духами. Налицо тонкая
десемантизация «дискурса Запада». Советская космонавтика
была создана Циолковским и его последователями вплоть до
Курчатова. Ученик мистического философа Н.Н.Федорова
Циолковский проектировал летательные аппараты и ракеты для
контактов с внеземными цивилизациями, с потусторонним
миром, что должно было служить федоровскому плану
«воскрешения мертвых».
Когда рациональная модель
накладывается на традиционное сознание, получаются
странные картины. Русскому человеку очень трудно себе
представить, что такое подлинно десакрализованная
цивилизация, что такое «язык современности». У людей
«традиционного общества» даже со значительной степенью
«вестернизации», не хватает воображения, чтобы представить
себе мир, радикально оторванный от онтологической причины,
тотально секуляризированный, предоставленный только самому
себе. Одна только мысль о таком мире, о такой Вселенной
для традиционного человека невыносима, вызывает ассоциации
с невыносимым адом, с последним кругом ада, с абсолютным
льдом. Когда люди традиционного общества читают
европейские книги, выстроенные в согласии с парадигмами
Просвещения, они наделяют их совершенно иным значением...
Европейское человечество привыкло истолковывать по-своему,
в своей системе координат то, что принадлежит иному
парадигмальному контексту. Но обратное явление гораздо
менее изучено. И тем не менее, это очень интересная тема:
те, кого современный американский интеллектуал Самуэль
Хантингтон называет обобщающим термином the Rest из
емкой формулы The West and the Rest, совершенно
оригинально воспринимают дискурс Запада, The West,
наделяя его вполне своебразным контентом. Сплошь и рядом
«десакрализация» и все, что с ней связано, воспринимается
ими как приглашение к «иной сакрализации», так как
осознать и усвоить чистую смерть дигитального отрицания
для них почти невозможно.
Подробнее см. предыдущие
лекции и А.Дугин «Русская Вещь», М., 2001. >>
{ 14 } См. подробнее А.Дугин статья
«Контринициация» в кн. «Конец Света», М., 1997. >>
{ 15 } «Протоколы сионских мудрецов»
представляют собой образец такого отождествления, где
ответственность за секуляризацию возлагается на
экзотическую для христианского мира иудейскую религию и ее
фундаменталистские круги. >>
{ 16 } См. лекцию «Иные миры» и
приложения к ней. >>
{ 17 } Более подробные рефлексии
относительного этого явления см. в книге: А.Дугин «Русская
Вещь», указ. соч. >>
{ 18 } Можно сказать, что в иных
пропорциях и иных формулировках радикальный субъект в
период изначальной полноты сакрального также жестко
дифференцировал себя самого от этого сакрального, являясь
в «языке Традиции» тайной аномалией. >>