
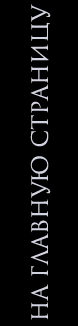




Юрий Мамлеев
«Метафизика ужаса»
{ с участием Александра Дугина }
Юрий Мамлеев: Часто на Западе мне приходилось слышать, что мои произведения являются литературной инициацией к ужасу. Давайте посмотрим, какого рода это ужас и почему он связан с инициацией.
В моих рассказах присутствует несколько видов ужаса. Я начну с первого вида, который содержится в разных рассказах. Этот ужас связан с индивидуальным бытием человека, с тем, как человек понимает себя, когда задает себе вопрос: «кто я?»Когда этот вопрос обращен внутрь, и человек видит не свою глубинную суть, а свою маску, свое тело, свое «эго» — человек ужасается.
Поэтому, первое, что проходит в моих вещах красной нитью, это ужас, связанный с непонятностью себя как индивидуума. И для иллюстрации самого первоначального импульса такого ужаса я прочту отрывок из рассказа «Ваня Кирпичиков в ванной», от имени героя:
«...но больше я теперь к телу своему отношусь умственно, с рассуждением. Пугает оно меня. Иной раз вот ляжу, ляжу в сухой ванне час, другой. Все тело свое пристальнее и пристальнее рассматриваю. Мозга почти не работает, только удивление так шевелится постепенно часами. Ух, думаю, тело какое — белое, с закорючками, загадочное. Ух, и чудеса, чертова мать, и почему нога впрямь растет, а не вкось? Ишь, с одной стороны, вижу его, тело, как предмет, как тумбочку какую чужую, с другой стороны, его чувствую. Ишь, так гул во мне нарастает и нарастает, я глаза на тело свое пялю, пялю, да вдруг как заору, выскочу из ванной, дверь настежь и бегом по коридору — от тела своего убежать хочу. Бегу стремглав. А сам думаю: Ха-ха, тело — то свое ты, Кирпичиков, в ванне оставил. Ха-ха, скорее, скорее, беги от него, надоело, ошалел от него, проклятого. Соседи во время этих историй на крючки запираются. А я свет погашу и в шкаф плотный такой, с дверцей, забьюсь. От собственного тела прячусь — как бы еще не кинулось, не придушило меня, ненормальное...»
Здесь в гротеске выражен страх человека перед своей оболочкой. Страх перед проекцией истинного «я» перед проекцией в мир. Потому что оболочки человека, в частности тело, эго, получают отпечаток того мира, а мир наш — падший, который видят перед собой.
Другой мой герой из рассказа «Человек с лошадиным бегом» говорит: «...глядишь на себя, глядишь, а то и руки поднимешь, самого себя перед зеркалом задушишь». Одна стихия ужаса связана со страхом перед самим собой.
Теперь вторая категория ужаса. Тут в качестве эпиграфа уместны слова одного моего героя: «Ужас, он просветляет». Каким же образом ужас может просветлять? Для того, что бы было понятнее, я прочту отрывок из рассказа «Жених». История следующая — у матери погибла девочка, погибла под машиной. И вот как мать реагирует: «Господи, говорила она, съежившись на корточках у икон, Господи, не может быть так жизнь устроена, чтобы один человек был причиной погибели другого, не может. Ваня не убивец, хоть и убивал. Он только прикоснулся к Надюше, связался с ней раз и навсегда. Тайна, Господи, их связала. Теперь для меня что Ваня, что Надюша. Таперича Ваня не убивец, а жених, воистину жених будущий.» (Ваня — это водитель машины, убивший девочку).
Что мы видим? Необычная реакция матери как бы связана с известным высказыванием о том, что «этот мир создан по ошибке». Мы не будем в это углубляться, но в данном случае просветление состоит в понимании того, что наш мир ненормален. Ужас ситуации приводит женщину к пониманию того, что так не может быть. «Не может один человек быть причиной погибели другого». Ужас действует как шок и ведет к неожиданному озарению.
После мы переходим к следующему важному моменту, который можно назвать, с одной стороны, трансцендентный ужас, а с другой стороны, ужас перед онтологически необъяснимым. Это своего рода «священный ужас». Ужас, ведущий в бездну.
Чтобы было понятно, о чем я говорю, вначале обратим внимание на следующий отрывок, описывающий встречу человека с тем, чего как будто бы не может быть совсем.
Это отрывок из сборника «Черное зеркало». Итак, героя рассказа начинают преследовать на улицах Нью-Йорка. И он вдруг видит на улице фигуру, похожую на человеческую, но которую он не в состоянии описать:
«...глаз мутанта, марсианина тускло глядел на него, рта вообще не было, точнее он был сдвинут почти к уху. Остальное нельзя было выразить. Страшен был череп в своей абсолютной беспощадности по отношению к жизни. Рук было как будто трое. Крэк чувствовал, сидя на тротуаре — еще один миг и он тронется, а он и так уже был сдвинут после всех больших событий, а сейчас назревал последний, окончательный полет. Сознание уходило от него. И в этот момент краем своего глаза Крэк увидел — его идут убивать. Размахивая руками, к нему шел тот человек с горбом на лбу. В руках у него был нож. Молния самосохранения пронзила бедного Крэка. «Спастись, спастись!» — выло все внутри. Сознание вернулось к нему. Собственный крик поднял его на ноги, и в ту же минуту он сделал единственный ход, который мог его спасти — он бросился в объятия мутанта. Три руки обвили его. Как сумасшедший, Крэк рвался поцеловать губы, но губ не было. Может быть, они находились где-то сзади или просто имели другую форму. Язык лизнул что-то странное — не то ухо, не то нос, не то просто отверстие, а из нутра Крэка рвался один только крик: «Мой друг, мой друг, наконец-то я тебя встретил!» Потенциальный убийца с горбом на лбу оторопел. С ножом в руках, острием своим направленным в нежную тушу Крэка, он застыл метрах в семи от него, горб прикрыл глаза, так, что их выражение трудно было разгадать. Но потом из его рта полилась речь на чистейшем английском языке: «Ты знаешь Чарли? Ты друг самого Чарли! Ты друг Чарли!» Кроме этого из его рта ничего не вырывалось. Потом человек с горбом на лбу повернулся, спрятал нож и пошел в обратную сторону. Крэк остался наедине с Чарли. Он отпрянул, чтобы взглянуть получше на своего спасителя. Тот еще не произнес и слова. Кто это перед ним? Невозможно было понять, какой он расы, пола, происхождения или просто цвета кожи. Цвет был скрыт под шерстью и видимо был неопределенен. Светился только один глаз. Большой и безумный.».
Обратите внимание, что здесь действуют как бы два ужаса — один обычный, с которым иногда мы сталкиваемся — это преследование убийцы и спасение от него в другом ужасе, спасение от мелкого ужаса жизни в том, что бы нырнуть в еще более сильный ужас, который как бы охраняет от этого маленького, но смертельного ужаса. Второй ужас — ужас перед необъяснимым, онтологически необъяснимым.
Что касается трансцендентного ужаса, то он тоже может вести к просветлению, а может и нет. Потому что когда мы сталкиваемся с тем, что лежит за границей человеческого познания, за границей всего того, что человечество может знать о метафизической сфере, мы сталкиваемся с тем, что опасно.
Роман «Шатуны», который является описанием ада современной жизни, характерен еще и тем, что его герои попытались ответить на вопросы, на которые человеческий разум не в состоянии ответить. Они как бы пересекли эту невидимую границу «положенного», они попытались выйти за человеческие возможности.
«Падов внезапно почувствовал, похолодев, то что составляет «Я» вот-вот рухнет. «Все скоро рухнет и что будет потом?» — прошептал он. Падов встал на ноги и, шатаясь, вышел из канавы. Так и пошел вперед с выпученными глазами по одинокому шоссе, навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросы.».
Итак, какие мы можем сделать по этому поводу заключения. Во-первых, я бы хотел обратить внимание, что когда речь идет о метафизическом ужасе, разъяснение проходит через противоположные крайности, через соединение несоединимого, соединение и «да»и «нет». Примеров такого соединения несоединимого очень много. Например, какие-то падшие алкоголики бормочут о высших тайнах и т.д. В такие моменты красота как бы происходит из уродства, и это приближает к истине. «Отвратительное, которое приближает к истине подобно безобразному, грязному, юродивому, где безумие только зеркало нашей общей, онтологической нищеты», — писала известный богослов Татьяна Горичева. Высмеивание иллюзий, ложного света. «Идеал» остается тогда, когда уходит чудо, Бог.
Такую же роль, как и ужас, в моих произведениях играет так называемое «веселье». Часто герои веселятся странно и страшно. Иногда их тянет плясать. Один пляшет перед домами, другой просто в одиночестве, третий с малыми детьми. Ужас коренным образом связан и с весельем. Одно переходит в другое и наоборот.
Итак, ужас сметает эту жизнь, уничтожает ее стабильность, ее наивный комфорт. В конечном итоге задача ужаса — уничтожить ум и рассудок, ибо ум и рассудок коренным образом связаны с этой жизнью. Как правило, они являются препятствием к истинной духовной реализации. Настоящая духовность связана с чистым интуитивным интеллектом, а прежде всего — с переходом к чистому духу, к чистому сознанию. Таким образом, первая функция ужаса — это то, что проходит, как ураган, по нашей жизни и может уничтожить то, что является иллюзией, ложным светом, вообще препятствием.
Кроме того — второй момент: ужас может служить для просветления. Еще есть одна такая формула: «Мои губы полны бесконечной жажды тревоги». Иногда ужас переходит не в веселье, а в бесконечную, трансцендентную тревогу. Это не банальная тревога, а тревога, связанная с попыткой познания того, что познать невозможно.
Неужели ужас является единственным средством для перехода в иное состояние? Если вы внимательно читали мои метафизические вещи: «Судьба бытия» и другие, то видно, как метафизика и искусство довольно сильно отличаются друг от друга. Можно сказать, что в моей метафизике я более позитивен, чем в искусстве. Дело в том, что моя метафизика связана с идеей «высшего я», которая частично пересекается с Ведантой и в общем-то с учением о том, что внутри человека есть нетварные пласты, которые неподвержены никаким ударам судьбы. Поэтому, если человек может выйти на этот уровень, то именно там прекращает свое бытие и ужас. Ужас будет нас преследовать, пока мы имеем форму, пока мы существа. Переход к этому уровню сознания заключает в себе переход в надиндивидуальный уровень. В уровень, который связан с бесконечным бытием, которое стоит над существованием индивидуума. Если мы облечены в плоть, мы неизбежно можем быть подвергнуты изменению, а следовательно, и ужасу. Только когда мы переходим в надиндивидуальное бытие стихает ужас и все человеческое. Появляется то, что на человеческом языке неописуемо. В эту сферу, дьявол не имеет доступа по определению. Единственное, что мы можем сказать в некое оправдание нашему бытию как бытию индивидуумов — неужели это то, что нужно преодолеть?
В моих произведениях и метафизике показано, что это не совсем так. В индивидуальном существовании, видимо, заключается особая тайна, которой как бы нет в центре. Это составляет тайную нить в моей метафизике. Несмотря на все страдания, есть нечто, что можно получить только из этого опыта, а не из опыта бесконечного блаженства.
Александр Дугин: Поскольку мы обозначили тему: «Юрий Мамлеев, метафизика и ужас», то я предлагаю концептуализировать эти понятия, поскольку при всей очевидности того, о чем идет речь, на самом деле тут много сложных и необычных вещей.
Во-первых, что такое литература? Я в свое время статью, которая называлась «Литература как зло». Она вызвала в основном негативную реакцию. В статье только формулировка эпатажная. Если следить за традиционалистской мыслью, принимать взгляд Генона на содержание современности, то содержание статьи покажется почти банально. Я доказываю, что литература начинается там, где заканчивается сакральный текст. Литература возникает как десакрализация текста, слова, когда придается одинаковая значимость не только, скажем, священным формулам, но и человеческим эмоциям и т.д. Место рождения литературы — между окончанием парадигмы метаязыка традиции и началом метаязыка современности, то есть в момент профанации. Там же рождаются современные науки. Функция литературы — разрушать сакральное отношение к тексту, применять холистский язык раздробленными, индивидуальными фрагментами.
Дальше возникает интересный момент. Такого чистого процесса мы в истории не наблюдаем никогда и нигде, литературы, какой она должна была бы быть по определению, не существует. Поскольку, если бы это было заявлено сразу, то цикл литературного существования был бы предельно краток, дошел бы до прямого нигилизма, и содержания предмета не было бы. Если применить тезис «литетатура как зло» к реальной истории литературы, мы внесем следующую поправку: литература, появляясь в разных государствах в разное время, никогда не выступала как чисто нигилистическая составляющая. Она несла в себе элементы иной сакральности. Появляясь в Возрождение, европейская литература отказывается от средневековой традиции, подвергает разложению средневековые смыслы, то есть выступает как скрытая форма иной культуры. На смену духовности средневековья приходит герметическая, розенкрейцеровская духовность иного сакрального ансамбля, связанного с алхимией, с определенными языческими продолжениями традиции. В отличие от средневековой католической традиции, которая была просветлена своим собственным семантическим содержанием, в данном случае здесь и происходит сбой: формально запад остается христианским и католическим, а в виде революционного, подрывного момента литература возрождения подкидывает зашифрованные, цеховые, розенкрейцеровские тексты, которые разлагают ансамбль средневековья.
Несмотря на то, что литература отрицает существующую форму сакральности и в этом она нигилистична, она не может до конца сразу выступить в отрицательной роли и поэтому на уровне герметики несет в себе некие положительные принципы, которые могут быть ясны не всем. И в этом зазоре, в отсутствие корреляции между формой и содержанием как раз вкрадывается нигилистический элемент. И постепенное «очищение» розенкрейцеровских парадигм и создает тот грандиозный профанический муляж, которым является современная литература в десакрализованном виде.
В 20-м веке, и не только с появлением низкопробной литературы, этот балласт все-таки был преодолен и нигилистическая часть «литературы как зла» окончательно растворила элементы консервативности. Эта ресакрализационная сторона в литературе осталась, и существует определенная традиция, которую едва ли можно назвать литературой. Е.В.Головин предлагает концепцию «литературы беспокойного присутствия»; говорят также о «черной» литературе, о метафизической литературе. Условно можно назвать это мегалитературой. Это некое явление, которое, апеллируя к форме и методологии обычной современной профанической литературы, «литературы как зла», использует этот профанический инструмент в совершенно иных целях. Эта метафизическая литература имеет свою традицию, она менее литературна, нежели обычная литература, она слишком концентрированна, слишком насыщена и метафизична. Она больше, чем литература и рефлектирует то, чем занимается. Классическое литературоведение уделяет ей очень ограниченное место. Это традиция черной фантастики, так называемая «литература беспокойного присутствия», она представлена такими авторами, как Майринк, Лавкрафт, у нас Пимен Карпов, Федор Сологуб, Андрей Белый. Если говорить о позиции Мамлеева и его творчестве, то единственное, к чему они могут относиться — это метафизическая литература.
Созидательное литературоведение занимается тем, что вычленяет из общего потока профанической литературы некие сакральные компоненты — этим занимался Юнг и Элиаде. В литературе беспокойного присутствия автор делает это сам, причем убедительнее и нагляднее, чем критик. С точки зрения отражения реальных процессов мира такая литература центральна, и именно это и следует изучать и именно этим следует заниматься. Свидетельства маталитераторов ценны и безотзывны, к ним необходимо прислушиваться в первую очередь. Даже по сравнению с «концентрированными»и упруго звучащими авторами данного направления Мамлеев ошарашивает своей откровенностью. Это стиль можно было бы назвать «метафизическим порно». Мамлеев описывает все, сразу и до конца. Такая специфика сверхнасыщенности творчества Мамлеева, где все дано уже в последних формулировках, делает его позицию особой даже по отношению к этой металитературе. Сам Юрий Витальевич очень точно определял свою позицию: у него есть рассказ «Мы готовы ко второму пришествию». Важна сама формула. В творчестве Мамлеева существует резонанс последних формул и откровений, последних подозрений. Это в каком-то смысле резюме метафизической литературы. В исламской традиции есть понятие «печати пророков». Печатью пророков считается Мохаммед. В исламском эзотеризме эта тема интересно развивается: говорится, что других пророков не будет, но существуют печати интерпретаторов, печати толкователей. Этой печатью толкователей будет последний, 12-й имам (напомню, что это эзотерическая линия, которая идет в ином ракурсе, нежели формальная исламская догматика). Так вот, я подозреваю, что Мамлеев является печатью металитературы. Ни больше ни меньше.
Сейчас существует масса коммерческих эксплуатаций Мамлеева, особенно советский постмодернизм — это есть не что иное, как зарабатывание карьеры и денег с Мамлеева. Если не положить с нашей стороны брутально и жестоко этому конец, то все это выльется в отвратительные и малоприятные формы.
Ужас как таковой. Металитературу называют литературой ужаса. Мамлеева называют еще мастером большого ужаса. В ужасе есть много уровней. Вообще можно построить иерархию ужасов — ужас №1, №2 и т.д. Самое простое представление об ужасе, которое можно развивать и растягивать довольно широко — это вполне религиозное представление о сакральном. Сакральное открывается человеку в единственном чувстве — в чувстве ужаса. Потому что сакральное — это целое, которое настолько выше части, что часть теряется, взрывается в этом целом. Как глаз не может заглянуть внутрь себя, так и часть не может вынести соприкосновения с целым. Столкновение с тем, что предшествует индивидууму, вызывает у него чувство ужаса. Отсюда религиозное понимание страха божьего как главной добродетели. Святое, сакральное — это не просто нечто красивенькое, более совершенное. Это то, что нас просто отменяет. Можно представить себе человека как некоторую фигуру, включая телесные, психические, интеллектуальные вещи. Ужас — это сфера, которая находится вне этой фигуры, и когда мы подходим к границе этой фигуры, мы сталкиваемся как бы со вспышкой. После того, как кончается наша фигура, начинается много еще чего, фактически начинается все и это все существует внутри ужаса, т.е. открывает себя как ужас по отношению к нам. Когда мы говорим, что узнали новую страну, новую идею, на самом деле это та же самая страна, та же самая идея, а по настоящему новое открывается нам в чувстве тотального ужаса. Отождествление с этим ужасом (история Крэка) является единственно спасительным ходом. Существует известный, традиционный символ петли, у Кали один из атрибутов — петля. Эта петля в определенных практиках интерпретируется как вкус трансцендентного. Ужас вне человека, как петля стягивает человека, стягивает его границы, показывая, что человек не мир, а всего лишь незначительный предмет в общем метафизическом пейзаже. Таким образом, столкновение с ужасом есть первый контакт с сакральным. Генон говорил о том, что инициатическая смерть предшествует духовной реализации. Момент разрыва уровня человеческого существования и называется инициатической смертью. Это не метафора. Все серьезно. Инициатическая смерть по последствиям ничуть не менее серьезна, чем обычная смерть. Единственное, что в случае обычной смерти, человек «пробуждается» с той стороны, а в случае инициатической смерти человек оказывается в том же самом мире. На место ада становится наше собственное бытие. Поэтому, как говорят тамплиеры, посвященные никогда не улыбаются. Они несут отпечаток ужаса в обычной жизни. Итак, ужас — это оперативный компонент духовной традиции. Не случайно в алхимии говорится о трех стадиях великого делания — работе в черном, в белом и в красном. О какой бы мы традиции ни говорили, везде первым, чему должен человек обучаться, является работа в черном. Это инициатическая смерть, операция, называемая «гниением». Этот этап может растянуться, но кульминацией этапа является факт столкновения с полнотой ужаса. Задача в том, чтобы все внимание вовлечь в сферу, внушающую ужас, погрузить себя в зазор между одним и другим. Этот ужас связан с колоссальным потрясением тех глубинных пластов, которые существуют в наиболее закрытых областях нашего бытия. Таким образом, в литературе Мамлеева роль ужаса еще и техническая. Эти рассказы порождают ужас, тревожат, завлекают внимательного читателя туда, откуда еще чуть — чуть и выхода не будет, эти рассказы фактически действуют как инициатические практики. Содержательная сторона творчества Мамлеева является закрытой темой и не так важна, как то, во что она облачена. Методология проникновения в ужас, столкновение с ним в чистой форме — это и есть задача постижения его как автора. Мамлеев привлекает наше внимание к тому, что действительно есть, в отличие от остальной тоталитарной массы, которая постоянно обращает нас к тому, чего просто нет.
Меня несколько раз упрекали различные персонажи из внешних сумерек за утверждение, что, дескать, все, что имеет отношение к Мамлееву, является сакральным и интересным, а между тем, как же академик Лихачев, марксистские кружки и тому подобное? Я думаю, что внятного разъяснения этим голосам дать невозможно, потому что они воспринимаются как фон. В советское время, если вспомнить, нас преследовал фон из телепередач, гимнов, песен и некоего неестественно-бодрого настроения, который дико диссонировал с внутренним состоянием. Сегодня фон другой, тембр изменился, но на самом деле это ни что иное, как артикуляция, в общем-то, бесовского завывания. Так вот, те кто хочет понять, как оно на самом деле, пусть выключат фон, и заново прочтут Мамлеева. Я хочу обратить ваше внимание к следующим текстам: «Литература как зло», «Филолог Аввакум», «Тамплиеры», «Параллельная родина...», радиопередачи о Клюеве, Майринке, Парвулеско. Сложите эти тексты и вы еще раз поймете доказанность вышесказанных тезисов. Кроме того есть еще как бы неочевидная уникальность Мамлеева. Если прислушиваться к интонациям Мамлеева, вглядываться в канву сюжета, в странную подоплеку всего того, что он делает, то возникает острое чувство, что есть еще что-то. Есть какая-то новизна.
Однажды я беседовал с Парвулеско, который знает Юрия Витальевича (неизвестно, чего и кого только Парвулеско не знает), так вот он сказал, что в творчестве Мамлеева есть нечто, что вообще нигде не присутствует. Нет ни одной, самой парадоксальной и чудовищной модели, где это было бы. Лишь однажды, в Риме к Парвулеско подошли трое людей, из Латинской Америки, которые показали маленький значок, на котором был изображен жук. И жестами дали понять, что они посланцы некоторой преонтологической реальности, пласта предшествующего ортодоксальному и гетеродоксальному эзотеризму, и знак жука есть некая особая печать. Парвулеско никогда в жизни не встречал ничего подобного, только в рассказах Мамлеева есть отзвук той реальности, о которой, возможно, эти трое латиноамериканцев пытались мне рассказать. Мы живем в конце того, что индусы называют Кали-югой. Наш мир сужен до бесконечно малых размеров. Профаническая реальность сузила наш мир до крупицы, и в туман ужаса попали даже бытовые предметы, которые еще вчера принадлежали нашей реальности. В творчестве Мамлеева вдруг непонятными становятся пальцы или нога, вдруг в сферу ужасного попадает чайник, который, напитываясь с той стороны, становится преследователем. В кали-югу те структуры, которые были защищены от ужаса тем, что сами его внушали, вдруг начинают догадываться, что по большому счету что-то не так. Что есть в блистательной парадигме метаязыка традиции какая-то тончайшая нотка, как бы декларирующая обращение ужаса к самому себе. Гейдар Джемаль основал на этом неуловимом откровении Мамлеева свою потрясающую метафизику, развив лишь одну из сторон данной темы. Был такой момент из рассказа «Новые нравы», когда пришел один персонаж в гости, подошел к сидящему мужику и ни с того ни с сего сказал: «...а вот вы меня и не зажарите, Иван Иванович». «А вот и зажарю.» — ответил Иван Иванович. Если представить колоссальные аспекты метаязыка традиции и метаязыка современности, здесь по большому счету все как бы останавливается. Сам Иван Иванович, сам сюжет, сами новые нравы (почти как Новый Университет) — все проваливается в воронку Незапланированного. У ситуации нет онтологического истока. Ужас подвергается как бы особой трансмутации, он обращается к тому, к чему раньше ему ни при каких обстоятельствах обращаться не позволяли, и что-то в воздухе ожидается. 1999 год, по Нострадамусу, должен быть годом прихода великого Короля Ужаса. Может быть, в этом году нам удасться подойти к расшифровке последнего пласта Мамлеева.
Юрий Мамлеев:Я прочту два маленьких рассказа. В них ужас может быть связан с весельем.
«Макраме»
«Вася Жуткин рабочий парень, лет двадцати трех, был существо не то что веселое, но веселье которого имело мрачную целенаправленность. Он, например, улыбался, когда шел к зубному врачу, улыбался, когда у него вычитали из зарплаты, обычное же его состояние было подавленное. Когда он пробегал по улице, все принимали его за среднего, расторопного человека. Между прочим, он почему-то не различал события своей внутренней жизни от домов, то и дело попадающихся ему в городе. Правда больше всего он не любил огоньки. Особенно ночные, дальние, когда все сливалось для него в один ряд, он забывал, где родился, кто он такой, что с ним было. Плясать же Вася Жуткин напротив — любил. Плясал он на обыкновенном полу, всегда один, только для видимости вознося руки в воздух. Прогуливался же после плясок он наоборот — в парах и всегда молчком, тогда как в пляске любил спеть. Последние года три пальтецо он носил одно и то же, грязьненькое, коричневое, но понравившееся ему из за сходства с цветом волос. Мать свою он забыл сразу, как только приехал в город на работу из подмосковной деревни. Там он помнил огромный, отяжелевший зад одной старой коровы, который ему почему-то хотелось подбросить. Вообще, надо сказать, что все тяжелое, особенно живое Вася Жуткин не терпел. Поэтому больше всего на свете он боялся слонов. Один раз он даже сбежал из зоопарка в пивную, что бы забыться.
Жил он в рабочем общежитии и все почему-то считали его необычайно обычным человеком. Но действительность уже давно примелькалась ему. С нею, с действительностью, у Васи были холодные и странно суровые отношения. К Богу у Васи было слегка странное отношение. Не то, что бы он считал, что Бога не существует, но ему, почему-то, всегда хотелось плакать, когда он вспоминал о Боге. Но как бы не были банальны отношения Васи к отдельным элементам действительности, в целом к ней он относился причудливо, а главное настороженно. Она казалась ему каким-то огромным блином, в котором стираются все грани. Ничтожное нередко превосходило великое, от этого Вася часто, по-собачьи застывал, прислушиваясь в неопределенную сторону. Иногда ему казалось, что сквозь все предметы нужно идти, как сквозь густой воздух и таким образом увязнуть в действительности, как в равномерном болоте. Больше всего его смущало обилие людей. Они как бы вытягивали его из самого себя, поэтому Вася часто пел. В последнее время он взял в привычку петь бегом. Часто поздним вечером, возвращаясь из магазина, с краюхой хлеба под мышкой, он одинокий, бежал по темным улицам, оглашая пространство зычным пением. Казалось — сама темнота шарахалась от него в сторону. Приноровился так же Вася Жуткин к математике, от того и поступил в вечернюю школу в седьмой класс. Нравилась ему математика нелепостью внешнего вида своих формул.
«Ишь, закорючки какие — думал Жуткин, — а зато, говорят, сила в них живет немалая.»
Очень часто сравнивал он эти символы с живым, например с собственными кишками.
Любовница от Васи, наконец, ушла, остался только клок волос. Он по-прежнему клал его около левого кулака, когда садился есть в шумной столовой.
Всю субботу падал мокрый снег. Дальние огоньки города затерялись между хлопьями снега. Вася весь этот день бегал из стороны в сторону — то за колбасой скакал, то по переулкам песни пел, то кулаком на бегу махал. В общежитии все время невозможно орал радиоприемник. В одних местах было очень светло, в других слишком темно. На следующий день, в воскресенье Вася пошел в компанию, это с ним бывало. Кроме него там очутилось еще четыре человека — Миша, Петя, Саша и Гриша. Еще не начали петь водку, как Васе захотелось выпрыгнуть в окно, с этажа. А этаж был десятый. Захотелось просто так, по-видимости на спор, а по существу от того, что он считал, что спрыгнуть с десятого этажа, что с первого — все равно. Миша стал отговаривать его, но очень сухо и формально, по этому на Васю это не оказало никакого влияния. Петя же так заинтересовался спором, что забыл про красную икру. Саша просто ужаснулся, когда услышал в чем дело. Вася, с присущей ему практичностью, одел на себя два пальто, что бы смягчить удар и деловито, но по темному, встал на подоконник. Петя даже испугался, что проиграет пол-литра и пошарил во дворах карманов. Миша по-прежнему довольно механически отговаривал Васю не прыгать. Ух — Жуткин полетел вниз и когда летел, то не понял разницы в своем положении. Ему захотелось раскрыть рот и изо всех сил каркнуть на всю вселенную, что бы заглушить всеобщее равнодушие. Вдруг Вася увидел слона, который выходил во двор и шел прямо к тому месту, куда он падал. Сердце его словно остановилось. Больше всего на свете Васю озадачивали слоны.
Миша, Петя и Саша, посмотрев из окна на мертвого Васю сели за стол. Но мы забыли про Гришу. Он спустился вниз, что бы вызвать милиционера и прекратить это безобразие.»
И последний, маленький рассказ, немножко в другом плане, называется «Прикованность».
«Почему все это произошло именно со мной, мне попытался объяснить один щуплый, облеванный чем-то несусветным старичок, отозвавший меня для этого за угол общественного туалета. Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе и ушел странствовать в другие нелепые миры. От этого-то я и не могу никуда двинуться. А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо интересную историю.
Жила на свете некая Нина Адольфовна — серьезная врачиха и весьма полная баба. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко и от внешнего бытия брать одни сливки. Было ли у нее что-нибудь внутреннее, кто знает? Один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать, внутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца... Недавно ее разбил паралич. Причем почти на мертво, так, что она лишилась дара речи, всех серьезных телодвижений и какой-то части сознания. Она лежала на кровати безмолвно, говорили, что она может пролежать так лет пятнадцать. Пенсию она стала получать большую и так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и спокойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили чем Бог пошлет. Через месяца два, ее в прошлом богатенькая комната стала почти пустой, так как нянечки и медсестры все почти обобрали, а Нина Адольфовна могла только молча за этим наблюдать.
Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном измордованном сквере, поздно вечером. Отряхнувшись, я пошел к далекому невзрачному столбу и передо мной встал образ Нины Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей пятнадцать лет. «Кукареку!» — громко закричал мне попавшийся под ноги петух. Вдруг, вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании в какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Нине Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя возле нее почти всю свою жизнь.
Вскоре. Я уже нелепо стучался в ее дверь. Соседка впустила меня и я увидел почти голую комнату — сестры милосердия вывезли даже мебель, в которой была, правда кровать Нины Адольфовны, тумбочка, гитара и ночной горшок. Нина Адольфовна могла делать только под себя. Ночной горшок стоял вечно пустой, как некое напоминание. Я остался вдвоем с Ниной Адольфовной, постоял около двери у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал что делать и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе, вдруг похлопал ее по жирному, огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо от удовольствия. «Ну что ж, Нина Адольфовна, начнем новую жизнь» — закричал я, бегая по комнате и потирая руки — «начнем новую жизнь». Но как нужно было ее начинать? Я сел в угол и начал с того, что просидел там три часа, неподвижно глядя на тело Нины Адольфовны. А за окном, между тем, медленно опускалось Солнце. Его лучи скользили иногда по животу Нины Адольфовны, а серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг, Нина Адольфовна с трудом чуть повернула голову и уставилась на меня тяжелым, парализованным взглядом. Я почувствовал в ее глазах, помимо этой тяжести, смутное беспокойство, попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у нее больше нечего красть и боялась по-видимому, что теперь ее будут есть. Говорили, что одна юркая старушка, кормя ее пол-ложки отправляла себе в рот. Наконец, в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом и она уснула. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески, я отвечал ей таим же взглядом. В конце концов, встал и зажег свет. Она издала слабое «ик», больше животом. Вдруг она подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование. Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи. С тех пор уже десять лет, каждый день, я прихожу в эту комнату, оставаясь с ней только на ночь. Нина Адольфовна подмигивает теперь только безобразным черным мухам, ползающим у нее по потолку. Но я не обижаюсь на нее за это. Мы по-прежнему смотрим друг в друга, я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность. Откуда эта странная прикованность? Я понял только, что она спасает меня от этого мира. Я потерял к нему всякий интерес. Раз и навсегда. Как будто ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня и от потустороннего мира. И в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность, точно душа мая прицепилась к этому бедному, жирному застывшему телу. Почему же иногда Нина Адольфовна плачет в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный черный ящик на миг вселяется маленький светлый ангел и мечется там. Неподвижность, одна неподвижность преследует нас. Иногда, в моменты тоски мне кажется, что Нина Адольфовна — это просто тень. Тень от трупа моей возлюбленной и постепенно у меня становится все меньше и меньше мыслей, они исчезают, одна неподвижность сковывает мое сознание и все существование концентрируется в одну точку. И возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвеет на десятилетия, на всю жизнь. Я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса, взъерошенный молодой человек, с сонными глазами наблюдает за мной. Он ждет, когда меня разобьет паралич, что бы так же присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Нины Адольфовны.»